О любви 💔 читать рассказ Чехова онлайн
Здесь вы можете читать онлайн рассказ «О любви» Антона Чехова, в котором рассказана история любви бедного помещика и жены его друга. Каждый считал что не достоин любви и скрывал свои чувства. Признались друг другу лишь тогда, когда были вынуждены проститься навсегда.
Слушать рассказ
На другой день к завтраку подавали очень вкусные пирожки, раков и бараньи котлеты; и пока ели, приходил наверх повар Никанор справиться, что гости желают к обеду. Это был человек среднего роста, с пухлым лицом и маленькими глазами, бритый, и казалось, что усы у него были не бриты, а выщипаны.
Алехин рассказал, что красивая Пелагея была влюблена в этого повара. Так как он был пьяница и буйного нрава, то она не хотела за него замуж, но соглашалась жить так. Он же был очень набожен, и религиозные убеждения не позволяли ему жить так; он требовал, чтобы она шла за него, и иначе не хотел, и бранил ее, когда бывал пьян, и даже бил. Когда он бывал пьян, она пряталась наверху и рыдала, и тогда Алехин и прислуга не уходили из дому, чтобы защитить ее в случае надобности.
Стали говорить о любви.
– Как зарождается любовь, – сказал Алехин, – почему Пелагея не полюбила кого-нибудь другого, более подходящего к ней по ее душевным и внешним качествам, а полюбила именно Никанора, этого мурло, – тут у нас все зовут его мурлом, – поскольку в любви важны вопросы личного счастья – всё это неизвестно и обо всем этом можно трактовать как угодно. До сих пор о любви была сказана только одна неоспоримая правда, а именно, что «тайна сия велика есть», всё же остальное, что писали и говорили о любви, было не решением, а только постановкой вопросов, которые так и оставались неразрешенными. То объяснение, которое, казалось бы, годится для одного случая, уже не годится для десяти других, и самое лучшее, по-моему, – это объяснять каждый случай в отдельности, не пытаясь обобщать. Надо, как говорят доктора, индивидуализировать каждый отдельный случай.
– Совершенно верно, – согласился Буркин.
– Мы, русские, порядочные люди, питаем пристрастие к этим вопросам, остающимся без разрешения.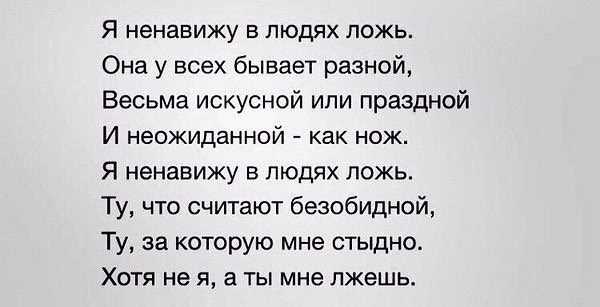 Обыкновенно любовь поэтизируют, украшают ее розами, соловьями, мы же, русские, украшаем нашу любовь этими роковыми вопросами, и притом выбираем из них самые неинтересные. В Москве, когда я еще был студентом, у меня была подруга жизни, милая дама, которая всякий раз, когда я держал ее в объятиях, думала о том, сколько я буду выдавать ей в месяц и почем теперь говядина за фунт. Так и мы, когда любим, то не перестаем задавать себе вопросы: честно это или нечестно, умно или глупо, к чему поведет эта любовь и так далее. Хорошо это или нет, я не знаю, но что это мешает, не удовлетворяет, раздражает – это я знаю.
Обыкновенно любовь поэтизируют, украшают ее розами, соловьями, мы же, русские, украшаем нашу любовь этими роковыми вопросами, и притом выбираем из них самые неинтересные. В Москве, когда я еще был студентом, у меня была подруга жизни, милая дама, которая всякий раз, когда я держал ее в объятиях, думала о том, сколько я буду выдавать ей в месяц и почем теперь говядина за фунт. Так и мы, когда любим, то не перестаем задавать себе вопросы: честно это или нечестно, умно или глупо, к чему поведет эта любовь и так далее. Хорошо это или нет, я не знаю, но что это мешает, не удовлетворяет, раздражает – это я знаю.
Было похоже, что он хочет что-то рассказать. У людей, живущих одиноко, всегда бывает на душе что-нибудь такое, что они охотно бы рассказали. В городе холостяки нарочно ходят в баню и в рестораны, чтобы только поговорить, и иногда рассказывают банщикам или официантам очень интересные истории, в деревне же обыкновенно они изливают душу перед своими гостями. Теперь в окна было видно серое небо и деревья, мокрые от дождя, в такую погоду некуда было деваться и ничего больше не оставалось, как только рассказывать и слушать.
– Я живу в Софьине и занимаюсь хозяйством уже давно, – начал Алехин, – с тех пор, как кончил в университете. По воспитанию я белоручка, по наклонностям – кабинетный человек, но на имении, когда я приехал сюда, был большой долг, а так как отец мой задолжал отчасти потому, что много тратил на мое образование, то я решил, что не уеду отсюда и буду работать, пока не уплачу этого долга. Я решил так и начал тут работать, признаюсь, не без некоторого отвращения. Здешняя земля дает не много, и, чтобы сельское хозяйство было не в убыток, нужно пользоваться трудом крепостных или наемных батраков, что почти одно и то же, или же вести свое хозяйство на крестьянский лад, то есть работать в поле самому, со своей семьей. Середины тут нет. Но я тогда не вдавался в такие тонкости. Я не оставлял в покое ни одного клочка земли, я сгонял всех мужиков и баб из соседних деревень, работа у меня тут кипела неистовая; я сам тоже пахал, сеял, косил и при этом скучал и брезгливо морщился, как деревенская кошка, которая с голоду ест на огороде огурцы; тело мое болело, и я спал на ходу. В первое время мне казалось, что эту рабочую жизнь я могу легко помирить со своими культурными привычками; для этого стоит только, думал я, держаться в жизни известного внешнего порядка. Я поселился тут наверху, в парадных комнатах, и завел так, что после завтрака и обеда мне подавали кофе с ликерами и, ложась спать, я читал на ночь «Вестник Европы». Но как-то пришел наш батюшка, отец Иван, и в один присест выпил все мои ликеры; и «Вестник Европы» пошел тоже к поповнам, так как летом, особенно во время покоса, я не успевал добраться до своей постели и засыпал в сарае в санях или где-нибудь в лесной сторожке – какое уж тут чтение? Я мало-помалу перебрался вниз, стал обедать в людской кухне, и из прежней роскоши у меня осталась только вся эта прислуга, которая еще служила моему отцу и которую уволить мне было бы больно.
В первое время мне казалось, что эту рабочую жизнь я могу легко помирить со своими культурными привычками; для этого стоит только, думал я, держаться в жизни известного внешнего порядка. Я поселился тут наверху, в парадных комнатах, и завел так, что после завтрака и обеда мне подавали кофе с ликерами и, ложась спать, я читал на ночь «Вестник Европы». Но как-то пришел наш батюшка, отец Иван, и в один присест выпил все мои ликеры; и «Вестник Европы» пошел тоже к поповнам, так как летом, особенно во время покоса, я не успевал добраться до своей постели и засыпал в сарае в санях или где-нибудь в лесной сторожке – какое уж тут чтение? Я мало-помалу перебрался вниз, стал обедать в людской кухне, и из прежней роскоши у меня осталась только вся эта прислуга, которая еще служила моему отцу и которую уволить мне было бы больно.
В первые же годы меня здесь выбрали в почетные мировые судьи. Кое-когда приходилось наезжать в город и принимать участие в заседаниях съезда и окружного суда, и это меня развлекало. Когда поживешь здесь безвыездно месяца два-три, особенно зимой, то в конце концов начинаешь тосковать по черном сюртуке. А в окружном суде были и сюртуки, и мундиры, и фраки, всё юристы, люди, получившие общее образование; было с кем поговорить. После спанья в санях, после людской кухни сидеть в кресле, в чистом белье, в легких ботинках, с цепью на груди – это такая роскошь!
Когда поживешь здесь безвыездно месяца два-три, особенно зимой, то в конце концов начинаешь тосковать по черном сюртуке. А в окружном суде были и сюртуки, и мундиры, и фраки, всё юристы, люди, получившие общее образование; было с кем поговорить. После спанья в санях, после людской кухни сидеть в кресле, в чистом белье, в легких ботинках, с цепью на груди – это такая роскошь!
В городе меня принимали радушно, я охотно знакомился. И из всех знакомств самым основательным и, правду сказать, самым приятным для меня было знакомство с Лугановичем, товарищем председателя окружного суда. Его вы знаете оба: милейшая личность. Это было как раз после знаменитого дела поджигателей; разбирательство продолжалось два дня, мы были утомлены. Луганович посмотрел на меня и сказал:
– Знаете что? Пойдемте ко мне обедать.
Это было неожиданно, так как с Лугановичем я был знаком мало, только официально, и ни разу у него не был. Я только на минутку зашел к себе в номер, чтобы переодеться, и отправился на обед.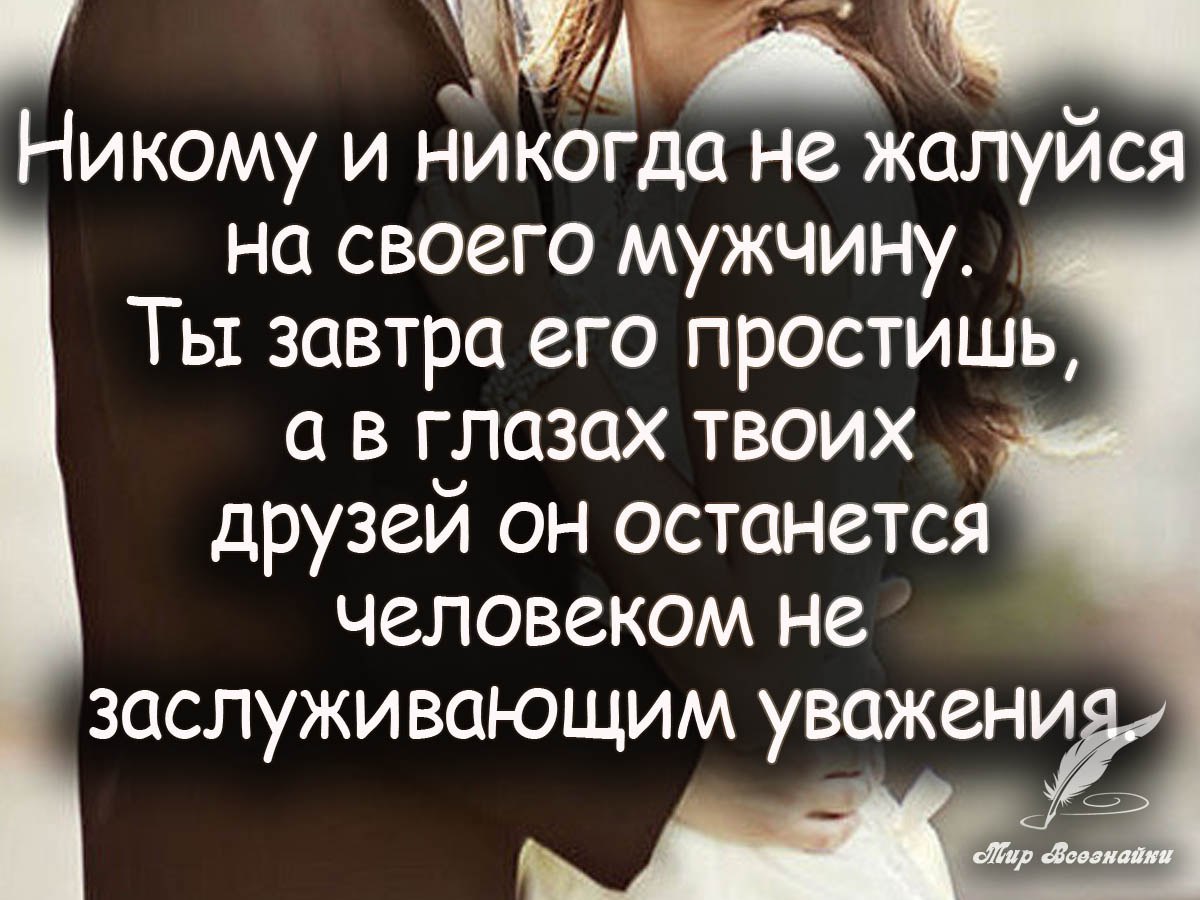 И тут мне представился случай познакомиться с Анной Алексеевной, женой Лугановича. Тогда она была еще очень молода, не старше двадцати двух лет, и за полгода до того у нее родился первый ребенок. Дело прошлое, и теперь бы я затруднился определить, что, собственно, в ней было такого необыкновенного, что мне так понравилось в ней, тогда же за обедом для меня всё было неотразимо ясно; я видел женщину молодую, прекрасную, добрую, интеллигентную, обаятельную, женщину, какой я раньше никогда не встречал; и сразу я почувствовал в ней существо близкое, уже знакомое, точно это лицо, эти приветливые, умные глаза я видел уже когда-то в детстве, в альбоме, который лежал на комоде у моей матери.
И тут мне представился случай познакомиться с Анной Алексеевной, женой Лугановича. Тогда она была еще очень молода, не старше двадцати двух лет, и за полгода до того у нее родился первый ребенок. Дело прошлое, и теперь бы я затруднился определить, что, собственно, в ней было такого необыкновенного, что мне так понравилось в ней, тогда же за обедом для меня всё было неотразимо ясно; я видел женщину молодую, прекрасную, добрую, интеллигентную, обаятельную, женщину, какой я раньше никогда не встречал; и сразу я почувствовал в ней существо близкое, уже знакомое, точно это лицо, эти приветливые, умные глаза я видел уже когда-то в детстве, в альбоме, который лежал на комоде у моей матери.
В деле поджигателей обвинили четырех евреев, признали шайку и, по-моему, совсем неосновательно. За обедом я очень волновался, мне было тяжело, и уж не помню, что я говорил, только Анна Алексеевна всё покачивала головой и говорила мужу:
– Дмитрий, как же это так?
Луганович – это добряк, один из тех простодушных людей, которые крепко держатся мнения, что раз человек попал под суд, то, значит, он виноват, и что выражать сомнение в правильности приговора можно не иначе, как в законном порядке, на бумаге, но никак не за обедом и не в частном разговоре.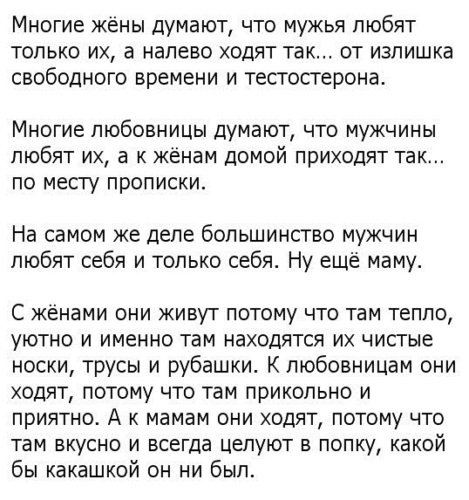
– Мы с вами не поджигали, – говорил он мягко, – и вот нас же не судят, не сажают в тюрьму.
И оба, муж и жена, старались, чтобы я побольше ел и пил; по некоторым мелочам, по тому, например, как оба они вместе варили кофе, и по тому, как они понимали друг друга с полуслов, я мог заключить, что живут они мирно, благополучно и что они рады гостю. После обеда играли на рояле в четыре руки, потом стало темно, и я уехал к себе. Это было в начале весны. Затем всё лето провел я в Софьине безвыездно, и было мне некогда даже подумать о городе, но воспоминание о стройной белокурой женщине оставалось во мне все дни; я не думал о ней, но точно легкая тень ее лежала на моей душе.
Позднею осенью в городе был спектакль с благотворительной целью. Вхожу я в губернаторскую ложу (меня пригласили туда в антракте), смотрю – рядом с губернаторшей Анна Алексеевна, и опять то же самое неотразимое, бьющее впечатление красоты и милых, ласковых глаз, и опять то же чувство близости.
Мы сидели рядом, потом ходили в фойе.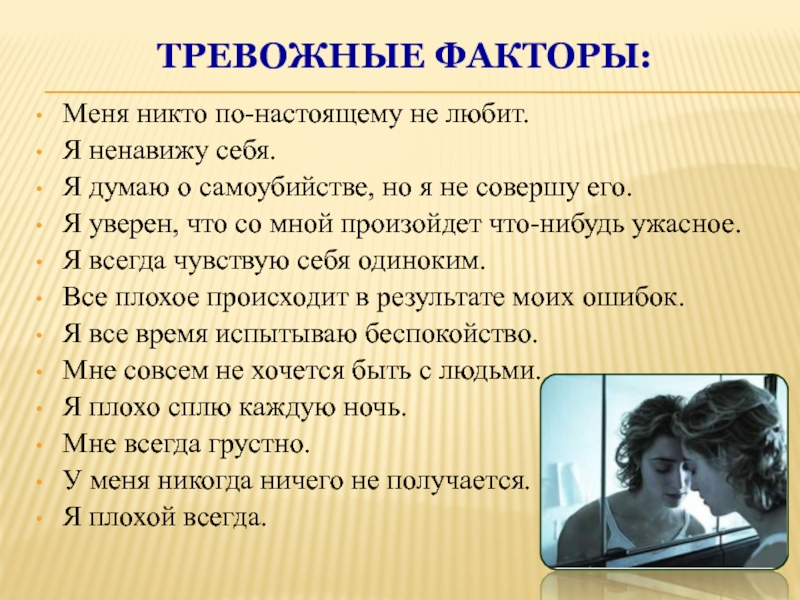
– Вы похудели, – сказала она. – Вы были больны?
– Да. У меня простужено плечо, и в дождливую погоду я дурно сплю.
– У вас вялый вид. Тогда, весной, когда вы приходили обедать, вы были моложе, бодрее. Вы тогда были воодушевлены и много говорили, были очень интересны, и, признаюсь, я даже увлеклась вами немножко. Почему-то часто в течение лета вы приходили мне на память и сегодня, когда я собиралась в театр, мне казалось, что я вас увижу.
И она засмеялась.
– Но сегодня у вас вялый вид, – повторила она. – Это вас старит.
На другой день я завтракал у Лугановичей; после завтрака они поехали к себе на дачу, чтобы распорядиться там насчет зимы, и я с ними. С ними же вернулся в город и в полночь пил у них чай в тихой, семейной обстановке, когда горел камин и молодая мать всё уходила взглянуть, спит ли ее девочка. И после этого в каждый свой приезд я непременно бывал у Лугановичей. Ко мне привыкли, и я привык. Обыкновенно входил я без доклада, как свой человек.
– Кто там? – слышался из дальних комнат протяжный голос, который казался мне таким прекрасным.
– Это Павел Константиныч, – отвечала горничная или няня.
Анна Алексеевна выходила ко мне с озабоченным лицом и всякий раз спрашивала:
– Почему вас так долго не было? Случилось что-нибудь?
Ее взгляд, изящная, благородная рука, которую она подавала мне, ее домашнее платье, прическа, голос, шаги всякий раз производили на меня всё то же впечатление чего-то нового, необыкновенного в моей жизни и важного. Мы беседовали подолгу и подолгу молчали, думая каждый о своем, или же она играла мне на рояле. Если же никого не было дома, то я оставался и ждал, разговаривал с няней, играл с ребенком или же в кабинете лежал на турецком диване и читал газету, а когда Анна Алексеевна возвращалась, то я встречал ее в передней, брал от нее все ее покупки, и почему-то всякий раз эти покупки я нес с такою любовью, с таким торжеством, точно мальчик.
Есть пословица: не было у бабы хлопот, так купила порося. Не было у Лугановичей хлопот, так подружились они со мной. Если я долго не приезжал в город, то, значит, я был болен или что-нибудь случилось со мной, и они оба сильно беспокоились. Они беспокоились, что я, образованный человек, знающий языки, вместо того, чтобы заниматься наукой или литературным трудом, живу в деревне, верчусь как белка в колесе, много работаю, но всегда без гроша. Им казалось, что я страдаю и если я говорю, смеюсь, ем, то только для того, чтобы скрыть свои страдания, и даже в веселые минуты, когда мне было хорошо, я чувствовал на себе их пытливые взгляды. Они были особенно трогательны, когда мне в самом деле приходилось тяжело, когда меня притеснял какой-нибудь кредитор или не хватало денег для срочного платежа; оба, муж и жена, шептались у окна, потом он подходил ко мне и с серьезным лицом говорил:
Не было у Лугановичей хлопот, так подружились они со мной. Если я долго не приезжал в город, то, значит, я был болен или что-нибудь случилось со мной, и они оба сильно беспокоились. Они беспокоились, что я, образованный человек, знающий языки, вместо того, чтобы заниматься наукой или литературным трудом, живу в деревне, верчусь как белка в колесе, много работаю, но всегда без гроша. Им казалось, что я страдаю и если я говорю, смеюсь, ем, то только для того, чтобы скрыть свои страдания, и даже в веселые минуты, когда мне было хорошо, я чувствовал на себе их пытливые взгляды. Они были особенно трогательны, когда мне в самом деле приходилось тяжело, когда меня притеснял какой-нибудь кредитор или не хватало денег для срочного платежа; оба, муж и жена, шептались у окна, потом он подходил ко мне и с серьезным лицом говорил:
– Если вы, Павел Константиныч, в настоящее время нуждаетесь в деньгах, то я и жена просим вас не стесняться и взять у нас.
И уши краснели у него от волнения. А случалось, что точно так же, пошептавшись у окна, он подходил ко мне, с красными ушами, и говорил:
– Я и жена убедительно просим вас принять от нас вот этот подарок.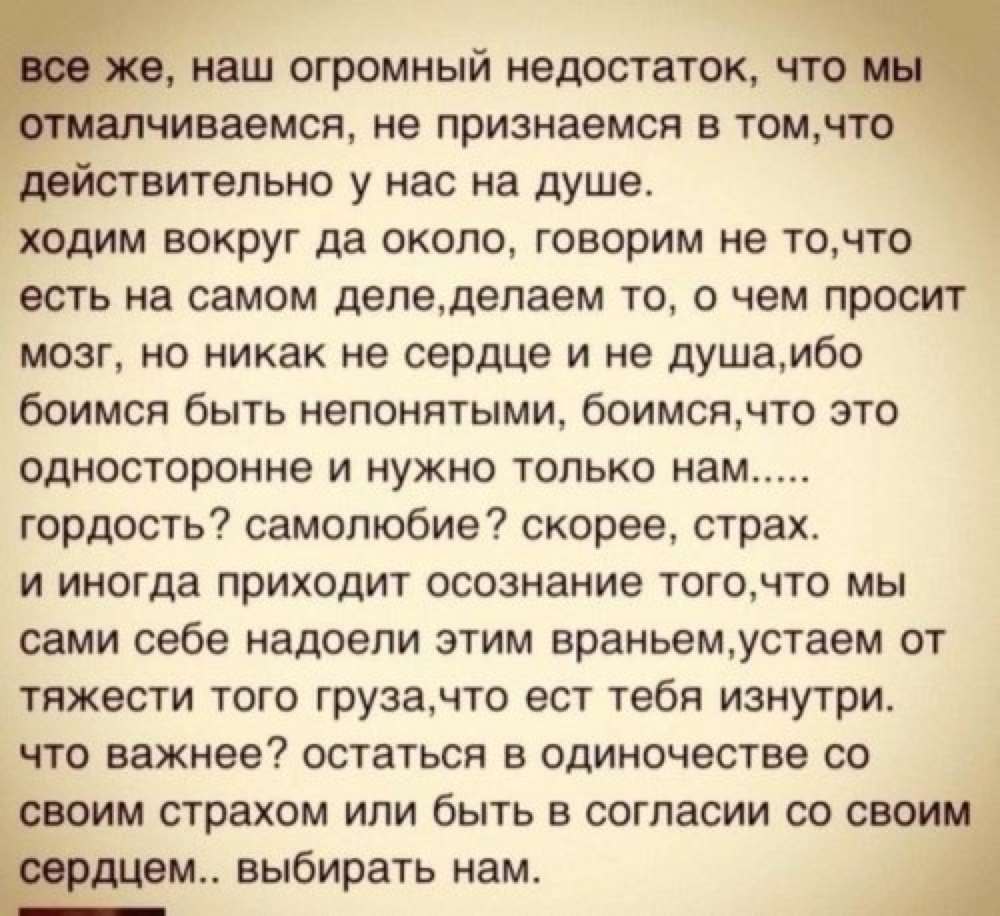
И подавал запонки, портсигар или лампу, и я за это присылал им из деревни битую птицу, масло и цветы. Кстати сказать, оба они были состоятельные люди. I? первое время я часто брал взаймы и был не особенно разборчив, брал, где только возможно, но никакие силы не заставили бы меня взять у Лугановичей. Да что говорить об этом!
Я был несчастлив. И дома, и в поле, и в сарае я думал о ней, я старался понять тайну молодой, красивой, умной женщины, которая выходит за неинтересного человека, почти за старика (мужу было больше сорока лет), имеет от него детей, – понять тайну этого неинтересного человека, добряка, простяка, который рассуждает с таким скучным здравомыслием, на балах и вечеринках держится около солидных людей, вялый, ненужный, с покорным, безучастным выражением, точно его привели сюда продавать, который верит, однако, в свое право быть счастливым, иметь от нее детей; и я всё старался понять, почему она встретилась именно ему, а не мне, и для чего это нужно было, чтобы в нашей жизни произошла такая ужасная ошибка.
А приезжая в город, я всякий раз по ее глазам видел, что она ждала меня; и она сама признавалась мне, что еще с утра у нее было какое-то особенное чувство, она угадывала, что я приеду. Мы подолгу говорили, молчали, но мы не признавались друг другу в нашей любви и скрывали ее робко, ревниво. Мы боялись всего, что могло бы открыть нашу тайну нам же самим. Я любил нежно, глубоко, но я рассуждал, я спрашивал себя, к чему может повести наша любовь, если у нас не хватит сил бороться с нею; мне казалось невероятным, что эта моя тихая, грустная любовь вдруг грубо оборвет счастливое течение жизни ее мужа, детей, всего этого дома, где меня так любили и где мне так верили. Честно ли это? Она пошла бы за мной, но куда? Куда бы я мог увести ее? Другое дело, если бы у меня была красивая, интересная жизнь, если б я, например, боролся за освобождение родины или был знаменитым ученым, артистом, художником, а то ведь из одной обычной, будничной обстановки пришлось бы увлечь ее в другую такую же или еще более будничную.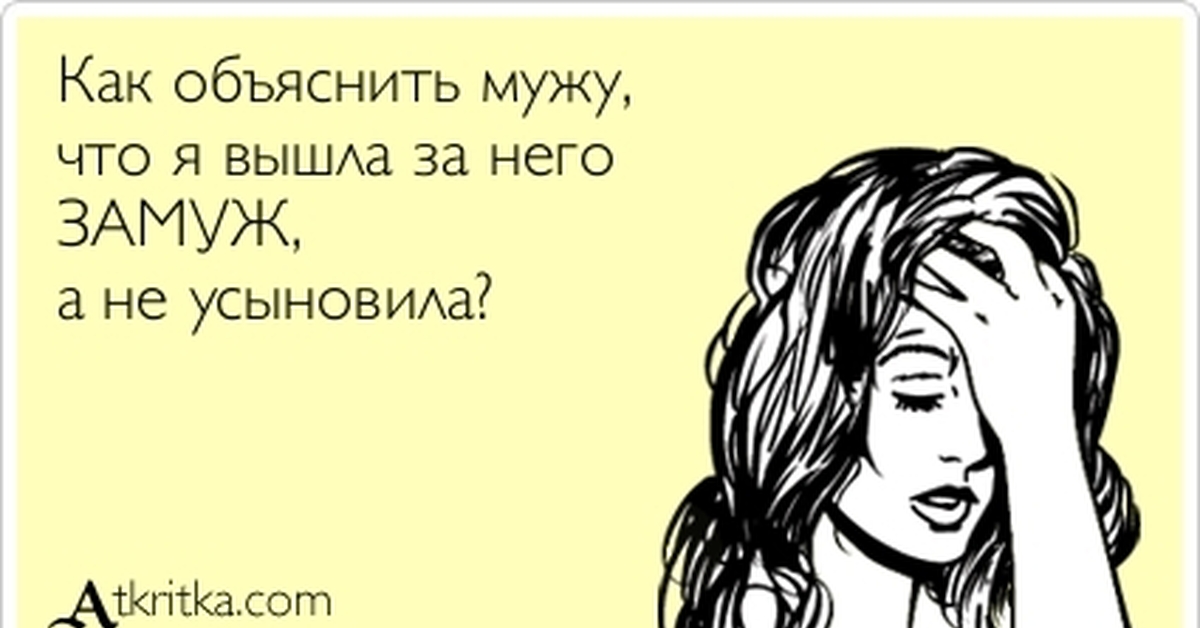 И как бы долго продолжалось наше счастье? Что было бы с ней в случае моей болезни, смерти или просто если бы мы разлюбили друг друга?
И как бы долго продолжалось наше счастье? Что было бы с ней в случае моей болезни, смерти или просто если бы мы разлюбили друг друга?
И она, по-видимому, рассуждала подобным же образом. Она думала о муже, о детях, о своей матери, которая любила ее мужа, как сына. Если б она отдалась своему чувству, то пришлось бы лгать или говорить правду, а в ее положении то и другое было бы одинаково страшно и неудобно. И ее мучил вопрос: принесет ли мне счастье ее любовь, не осложнит ли она моей жизни, и без того тяжелой, полной всяких несчастий? Ей казалось, что она уже недостаточно молода для меня, недостаточно трудолюбива и энергична, чтобы начать новую жизнь, и она часто говорила с мужем о том, что мне нужно жениться на умной, достойной девушке, которая была бы хорошей хозяйкой, помощницей, – и тотчас же добавляла, что во всем городе едва ли найдется такая девушка.
Между тем годы шли. У Анны Алексеевны было уже двое детей. Когда я приходил к Лугановичам, прислуга улыбалась приветливо, дети кричали, что пришел дядя Павел Константиныч, и вешались мне на шею; все радовались. Не понимали, что делалось в моей душе, и думали, что я тоже радуюсь. Все видели во мне благородное существо. И взрослые и дети чувствовали, что по комнате ходит благородное существо, и это вносило в их отношения ко мне какую-то особую прелесть, точно в моем присутствии и их жизнь была чище и красивее. Я и Анна Алексеевна ходили вместе в театр, всякий раз пешком; мы сидели в креслах рядом, плечи наши касались, я молча брал из ее рук бинокль и в это время чувствовал, что она близка мне, что она моя, что нам нельзя друг без друга, но, по какому-то странному недоразумению, выйдя из театра, мы всякий раз прощались и расходились, как чужие. В городе уже говорили о нас бог знает что, но из всего, что говорили, не было ни одного слова правды.
Не понимали, что делалось в моей душе, и думали, что я тоже радуюсь. Все видели во мне благородное существо. И взрослые и дети чувствовали, что по комнате ходит благородное существо, и это вносило в их отношения ко мне какую-то особую прелесть, точно в моем присутствии и их жизнь была чище и красивее. Я и Анна Алексеевна ходили вместе в театр, всякий раз пешком; мы сидели в креслах рядом, плечи наши касались, я молча брал из ее рук бинокль и в это время чувствовал, что она близка мне, что она моя, что нам нельзя друг без друга, но, по какому-то странному недоразумению, выйдя из театра, мы всякий раз прощались и расходились, как чужие. В городе уже говорили о нас бог знает что, но из всего, что говорили, не было ни одного слова правды.
В последние годы Анна Алексеевна стала чаще уезжать то к матери, то к сестре; у нее уже бывало дурное настроение, являлось сознание неудовлетворенной, испорченной жизни, когда не хотелось видеть ни мужа, ни детей. Она уже лечилась от расстройства нервов.
Мы молчали и всё молчали, а при посторонних она испытывала какое-то странное раздражение против меня; о чем бы я ни говорил, она не соглашалась со мной, и если я спорил, то она принимала сторону моего противника. Когда я ронял что-нибудь, то она говорила холодно:
– Поздравляю вас.
Если, идя с ней в театр, я забывал взять бинокль, то потом она говорила:
– Я так и знала, что вы забудете.
К счастью или к несчастью, в нашей жизни не бывает ничего, что не кончалось бы рано или поздно. Наступило время разлуки, так как Лугановича назначили председателем в одной из западных губерний. Нужно было продавать мебель, лошадей, дачу. Когда ездили на дачу и потом возвращались и оглядывались, чтобы в последний раз взглянуть на сад, на зеленую крышу, то было всем грустно, и я понимал, что пришла пора прощаться не с одной только дачей. Было решено, что в конце августа мы проводим Анну Алексеевну в Крым, куда посылали ее доктора, а немного погодя уедет Луганович с детьми в свою западную губернию.
Мы провожали Анну Алексеевну большой толпой. Когда она уже простилась с мужем и детьми и до третьего звонка оставалось одно мгновение, я вбежал к ней в купе, чтобы положить на полку одну из ее корзинок, которую она едва не забыла; и нужно было проститься. Когда тут, в купе, взгляды наши встретились, душевные силы оставили нас обоих, я обнял ее, она прижалась лицом к моей груди, и слезы потекли из глаз; целуя ее лицо, плечи, руки, мокрые от слез, – о, как мы были с ней несчастны! – я признался ей в своей любви, и со жгучей болью в сердце я понял, как ненужно, мелко и как обманчиво было всё то, что нам мешало любить. Я понял, что когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви нужно исходить от высшего, от более важного, чем счастье или несчастье, грех или добродетель в их ходячем смысле, или не нужно рассуждать вовсе.
Я поцеловал в последний раз, пожал руку, и мы расстались – навсегда. Поезд уже шел. Я сел в соседнем купе, – оно было пусто, – и до первой станции сидел тут и плакал. Потом пошел к себе в Софьино пешком…
Потом пошел к себе в Софьино пешком…
Пока Алехин рассказывал, дождь перестал и выглянуло солнце. Буркин и Иван Иваныч вышли на балкон; отсюда был прекрасный вид на сад и на плес, который теперь на солнце блестел, как зеркало. Они любовались и в то же время жалели, что этот человек с добрыми, умными глазами, который рассказывал им с таким чистосердечием, в самом деле вертелся здесь, в этом громадном имении, как белка в колесе, а не занимался наукой или чем-нибудь другим, что делало бы его жизнь более приятной; и они думали о том, какое, должно быть, скорбное лицо было у молодой дамы, когда он прощался с ней в купе и целовал ей лицо и плечи. Оба они встречали ее в городе, а Буркин был даже знаком с ней и находил ее красивой.
Анна Алексеевна в рассказе «О любви» Чехова: образ, характеристика, описание
| А.П.Чехов |
Рассказ «О любви» был написан А.П.Чеховым в 1898 году.
В этой статье представлен цитатный образ и характеристика Анны Алексеевны в рассказе «О любви» Чехова.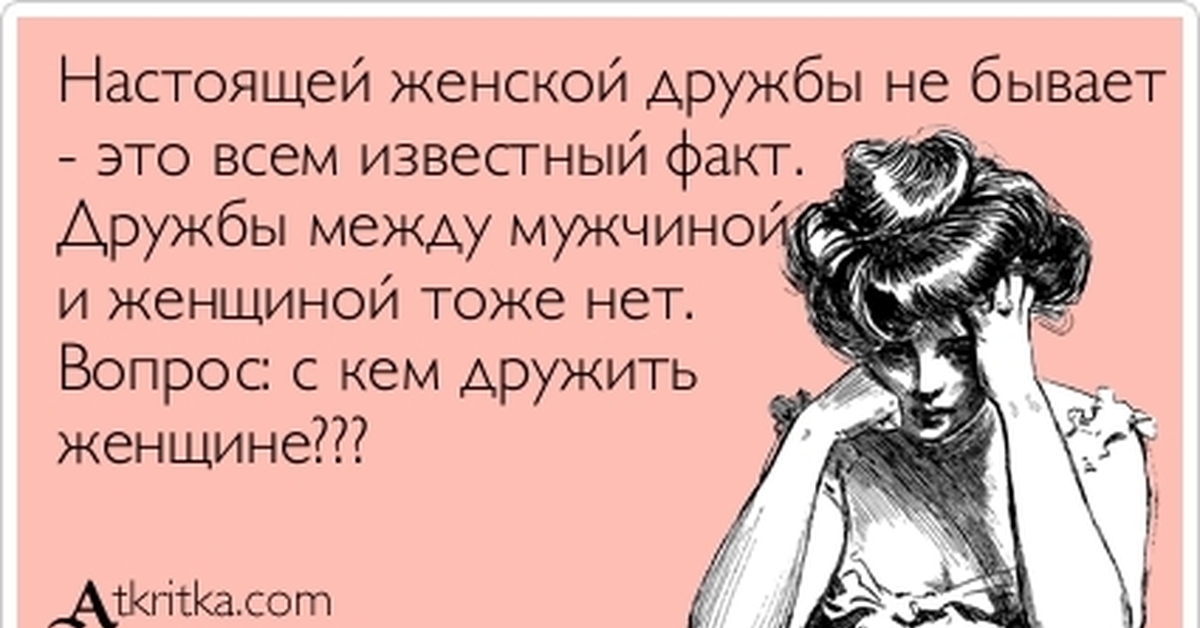
Смотрите:
— Краткое содержание рассказа
— Все материалы по рассказу «О любви»
Анна Алексеевна Луганович является знакомой главного героя, господина Алехина:
«…с Лугановичем я был знаком мало, только официально…»
«И тут мне представился случай познакомиться с Анной Алексеевной, женой Лугановича.»
Анна Алексеевна — жена господина Лугановича, 40-летнего добряка:
«…женщины, которая выходит за неинтересного человека, почти за старика (мужу было больше сорока лет), имеет от него детей, – понять тайну этого неинтересного человека, добряка, простяка…»
Госпожа Луганович является молодой женщиной не старше 22-х лет (на момент знакомства с Алехиным):
«Тогда она была еще очень молода, не старше двадцати двух лет…»
Анна Алексеевна — состоятельная дворянка:
«Кстати сказать, оба они были состоятельные люди.
«
Анна и ее супруг живут мирно и дружно. У них есть маленький ребенок (на момент знакомства с Алехиным):
«…по некоторым мелочам, по тому, например, как оба они вместе варили кофе, и по тому, как они понимали друг друга с полуслов, я мог заключить, что живут они мирно, благополучно и что они рады гостю.»
«…и в полночь пил у них чай в тихой, семейной обстановке, когда горел камин…»
«…и за полгода до того у нее родился первый ребенок.»
Анна Алексеевна является молодой, красивой и умной женщиной:
«…я старался понять тайну молодой, красивой, умной женщины…»
Анна — прекрасная, добрая, интеллигентная и обаятельная женщина:
«…я видел женщину молодую, прекрасную, добрую, интеллигентную, обаятельную, женщину, какой я раньше никогда не встречал…»
О внешности героини известно следующее:
«.
..но воспоминание о стройной белокурой женщине оставалось во мне все дни; я не думал о ней, но точно легкая тень ее лежала на моей душе.»
«…опять то же самое неотразимое, бьющее впечатление красоты и милых ласковых глаз…»
«Ее взгляд, изящная, благородная рука, которую она подавала мне…»
Анна Алексеевна и ее муж являются заботливыми, внимательными людьми. Так например, они беспокоятся, когда Алехин долго не навещает их, предлагают ему деньги, когда тот испытывает финансовые трудности, дарят ему дорогие подарки:
«Если я долго не приезжал в город, то, значит, я был болен или что‑нибудь случилось со мной, и они оба сильно беспокоились.»
«Они были особенно трогательны, когда мне в самом деле приходилось тяжело, когда меня притеснял какой‑нибудь кредитор или не хватало денег для срочного платежа; оба, муж и жена, шептались у окна, потом он подходил ко мне и с серьезным лицом говорил:
– Если вы, Павел Константиныч, в настоящее время нуждаетесь в деньгах, то я и жена просим вас не стесняться и взять у нас.
«
С первой встречи с Анной Алексеевной господин Алехин сразу чувствует в ней близкое ему существо:
«…и сразу я почувствовал в ней существо близкое, уже знакомое, точно это лицо, эти приветливые, умные глаза я видел уже когда‑то в детстве, в альбоме, который лежал на комоде у моей матери.»
«…и опять то же чувство близости.»
Со временем господин Алехин становится другом семьи Лугановичей. Он проводит много времени с Анной Алексеевной:
«И после этого в каждый свой приезд я непременно бывал у Лугановичей. Ко мне привыкли, и я привык. Обыкновенно входил я без доклада, как свой человек.»
«Мы беседовали подолгу и подолгу молчали, думая каждый о своем, или же она играла мне на рояле.»
Анна Алексеевна и Алехин любят друг друга, но никогда не говорят об этом и ничего не предпринимают, чтобы быть вместе. Они оба боятся, что перемены в жизни принесут им только несчастье, и не хотят сделать друг друга несчастным:
«Мы подолгу говорили, молчали, но мы не признавались друг другу в нашей любви и скрывали ее робко, ревниво.
Мы боялись всего, что могло бы открыть нашу тайну нам же самим. Я любил нежно, глубоко, но я рассуждал, я спрашивал себя, к чему может повести наша любовь, если у нас не хватит сил бороться с нею; мне казалось невероятным, что эта моя тихая, грустная любовь вдруг грубо оборвет счастливое течение жизни ее мужа, детей, всего этого дома, где меня так любили и где мне так верили. Честно ли это? Она пошла бы за мной, но куда? Куда бы я мог увести ее? Другое дело, если бы у меня была красивая, интересная жизнь…»
«И она, по‑видимому, рассуждала подобным же образом. Она думала о муже, о детях, о своей матери, которая любила ее мужа, как сына. Если б она отдалась своему чувству, то пришлось бы лгать или говорить правду, а в ее положении то и другое было бы одинаково страшно и неудобно. И ее мучил вопрос: принесет ли мне счастье ее любовь, не осложнит ли она моей жизни, и без того тяжелой, полной всяких несчастий? Ей казалось, что она уже недостаточно молода для меня, недостаточно трудолюбива и энергична, чтобы начать новую жизнь.
..»
Проходят годы, у Анны Алексеевны и ее супруга рождается второй ребенок. Алехин чувствует, что он и Анна не могут жить друг без друга, но влюбленные по-прежнему ничего не пытаются изменить:
«Между тем годы шли. У Анны Алексеевны было уже двое детей.»
«…чувствовал, что она близка мне, что она моя, что нам нельзя друг без друга, но, по какому‑то странному недоразумению, выйдя из театра, мы всякий раз прощались и расходились, как чужие. В городе уже говорили о нас бог знает что, но из всего, что говорили, не было ни одного слова правды.»
С годами Анна начинает проявлять раздражение по отношению к Алехину. У нее случается плохое настроение из-за неудовлетворенности своей жизнью и появляются проблемы с нервами:
«В последние годы Анна Алексеевна стала чаще уезжать то к матери, то к сестре; у нее уже бывало дурное настроение, являлось сознание неудовлетворенной, испорченной жизни, когда не хотелось видеть ни мужа, ни детей.
Она уже лечилась от расстройства нервов.»
«Мы молчали и всё молчали, а при посторонних она испытывала какое‑то странное раздражение против меня; о чем бы я ни говорил, она не соглашалась со мной, и если я спорил, то она принимала сторону моего противника.»
В конце концов семья Лугановичей переезжает жить в другую губернию. На прощанье Алехин наконец признается Анне в любви и понимает, насколько они оба несчастливы. Алехин осознает, что упустил свое счастье, которое было так возможно. Алехин и Анна прощаются навсегда:
«…нужно было проститься. Когда тут, в купе, взгляды наши встретились, душевные силы оставили нас обоих, я обнял ее, она прижалась лицом к моей груди, и слезы потекли из глаз; целуя ее лицо, плечи, руки, мокрые от слез, – о, как мы были с ней несчастны! – я признался ей в своей любви, и со жгучей болью в сердце я понял, как не нужно, мелко и как обманчиво было все то, что нам мешало любить.»
Это был цитатный образ и характеристика Анны Алексеевны в рассказе «О любви» Чехова: описание внешности и характера героини.
Смотрите:
Все материалы по рассказу «О любви»
Все материалы по творчеству Чехова
Действительно, безумно, виновато — The New York Times
Реклама
Продолжить чтение основной истории
СОВРЕМЕННАЯ ЛЮБОВЬ
Айелет Уолдман
Я БЫЛА во многих группах матерей — «Мама и я», «Джимбори», «Вторые мамы» — и каждый раз, в течение трех минут, разговор неизменно заходит на тему того, как часто мама чувствует себя обязанной потушить. Каждый хочет быть уверенным, что никто больше не занимается сексом. Это женщины, которые в большинстве своем довольны своим телом, считают себя сексуальными существами. Это женщины, которые любят своих мужей или партнеров. Тем не менее, почти никто из них не занимается сексом.
Причины этой постельной смерти согласованы. Они истощены. Все еще болит. Они настолько физически доступны для своих детей — кормят грудью, носят на руках, гладят — как они могут вынести физическую доступность для кого-то еще?
Но настоящая причина отсутствия секса, или, по крайней мере, самая глубокая, заключается в том, что страсть жены переориентировалась.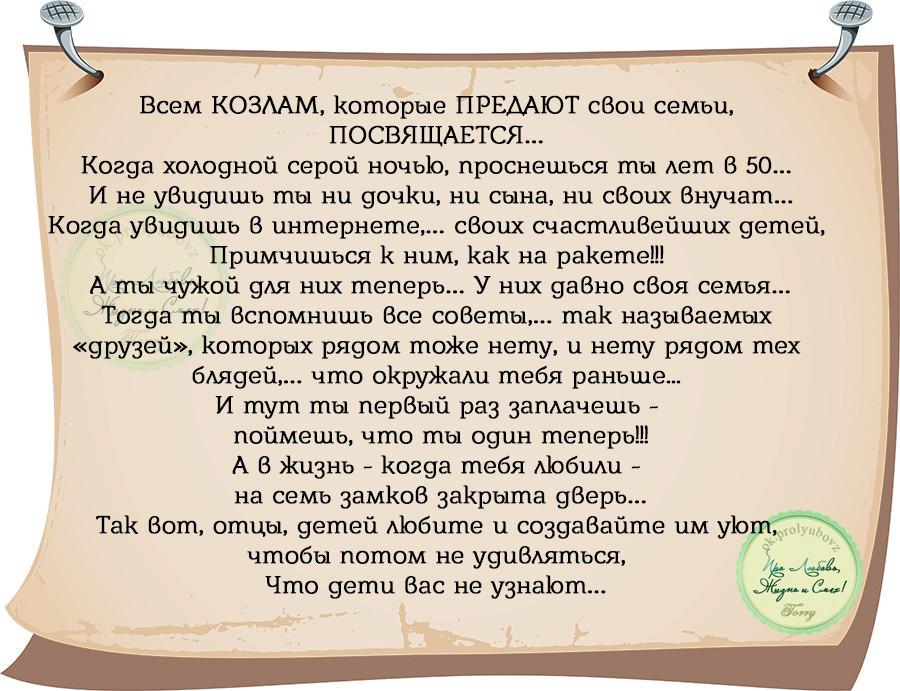 Вместо того, чтобы сосредоточить свой пыл на муже, она концентрирует его на своих детях. Там, где когда-то ее муж был центром ее страстной вселенной, теперь появилось новое солнце, по орбите которого она вращается. Либидо, каким она его когда-то знала, исчезло, и на его место пришло всепоглощающее материнское желание. Существует абсолютное единодушие по этому вопросу и мгновенная уверенность.
Вместо того, чтобы сосредоточить свой пыл на муже, она концентрирует его на своих детях. Там, где когда-то ее муж был центром ее страстной вселенной, теперь появилось новое солнце, по орбите которого она вращается. Либидо, каким она его когда-то знала, исчезло, и на его место пришло всепоглощающее материнское желание. Существует абсолютное единодушие по этому вопросу и мгновенная уверенность.
Кроме, то есть от меня.
Я единственная женщина в сериале «Мама и я», которая, похоже, что-то получает. Это может наполнить меня самодовольным благополучием. Я мог сидеть в комнате и злорадствовать над своим чудесным браком. Я мог думать о том, что наша сексуальная жизнь — всегда живая, даже бурная — теперь более захватывающая и богатая воображением, чем была, когда мы впервые встретились. Я мог бы проверить свои часы, чтобы увидеть, есть ли у меня время, чтобы зайти в Good Vibrations, чтобы посмотреть, есть ли у них какие-нибудь новые захватывающие игрушки. Я могла даже с сожалением смотреть на других матерей в группе, желая, чтобы они тоже испытали такую же глубокую любовь, как и моя.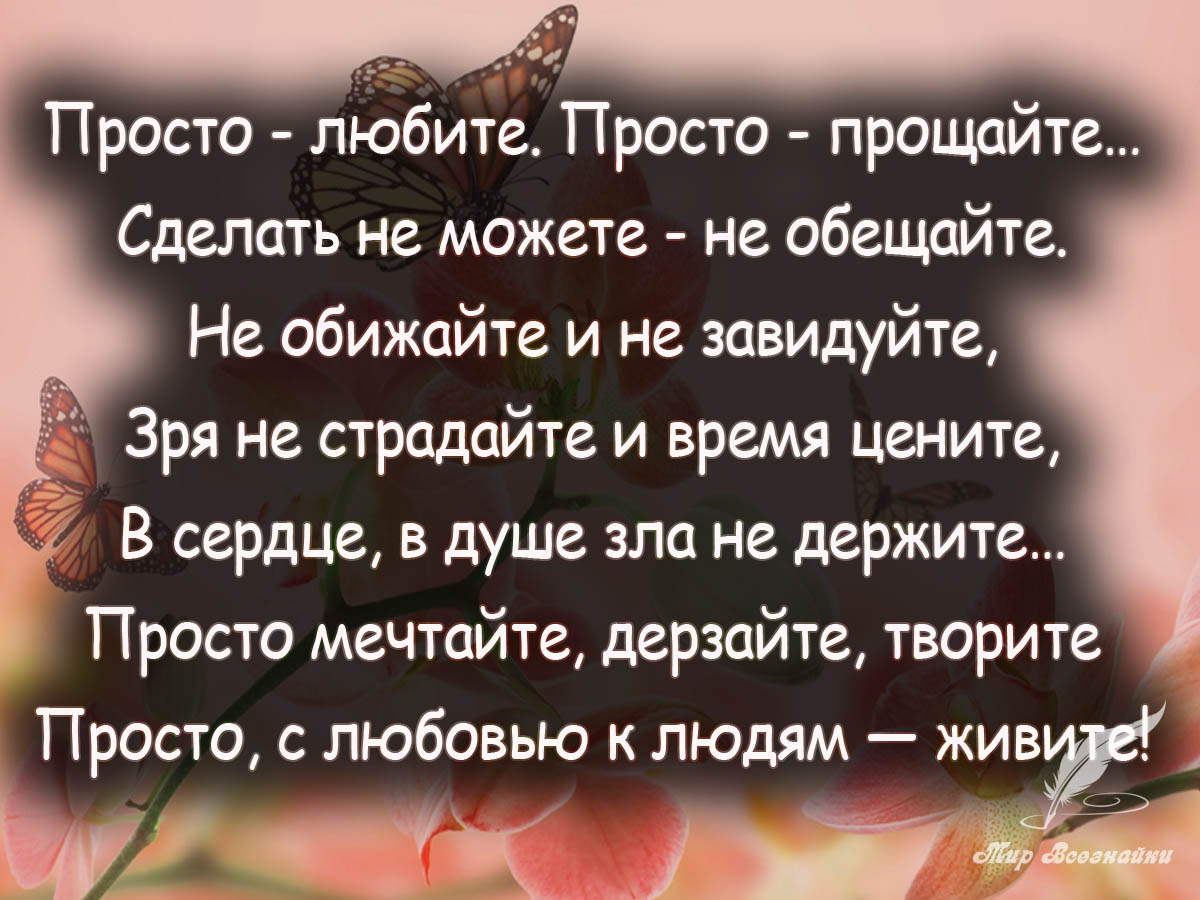
Но я не знаю. Я слишком занят, беспокоясь о том, что со мной не так. Почему из всех женщин в комнате я единственная не совершила эротического перехода, который должна совершать хорошая мать? Почему я единственный, кто не способен поставить своих детей в центр своей страстной вселенной?
КОГДА родилась моя первая дочь, мой муж держал ее на руках и говорил: «Боже мой, какая она красивая».
Я вытащил ребенка из одеяла. Она была среднего роста, с длинными тонкими пальцами и случайным набором пальцев на ногах. Глаза у нее были близко посажены, а нос крючковатый, как у отца. На нем это смотрелось лучше.
Она выглядела как новорожденный ребенок, красная и тощая, с прыщами на лице и хныкающая. Я не помню, что сказала мужу. На самом деле я очень мало помню о своих первых днях материнства, затуманенных перкосетом и викодином, за исключением того, что кто-то звонил и визжал: «Разве ты не совсем влюблен?» И, конечно же, я был. Только не с моим ребенком.
Я люблю ее.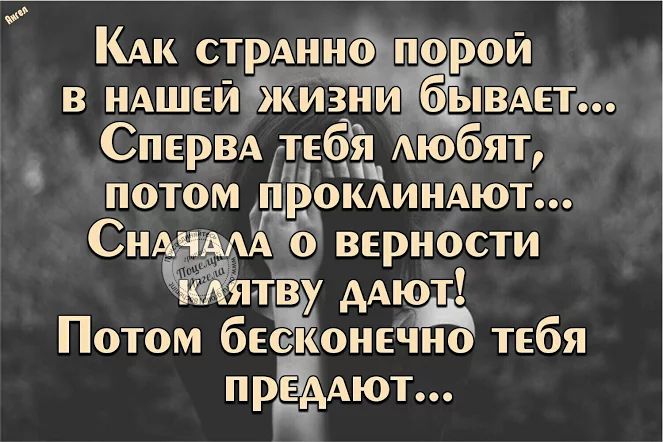 Но я не влюблен в нее. Ни с двумя ее братьями или сестрой. Да, у меня четверо детей. Четверо детей, с которыми я провожу большую часть дня: купаю их, расчесываю им волосы, сижу с ними, пока они делают уроки, держу их, пока они плачут трагическими слезами. Но я не влюблен ни в одну из них. Я влюблена в своего мужа.
Но я не влюблен в нее. Ни с двумя ее братьями или сестрой. Да, у меня четверо детей. Четверо детей, с которыми я провожу большую часть дня: купаю их, расчесываю им волосы, сижу с ними, пока они делают уроки, держу их, пока они плачут трагическими слезами. Но я не влюблен ни в одну из них. Я влюблена в своего мужа.
Это его лицо вызывает во мне приступы безудержной преданности. Если хорошая мать — это та, которая любит своего ребенка больше, чем кто-либо другой в мире, то я плохая мать. Я на самом деле плохая мать. Я люблю своего мужа больше, чем своих детей.
Пример: я часто занимаюсь родительским развлечением, известным как «Не дай Бог». Что, если, не дай бог, кто-нибудь похитит одного из моих детей? Не дай бог. Я представляю, каково было бы потерять одного или даже всех из них. Я представляю себя поглощенным, уничтоженным болью. И все же в этих фантазиях всегда есть будущее после смерти ребенка. Потому что, если бы я потеряла одного из своих детей, не дай Бог, даже если бы я потеряла всех своих детей, не дай Бог, у меня все равно был бы он, мой муж.
Но мое воображение просто подводит меня, когда я пытаюсь представить себе будущее после смерти моего мужа. Конечно, я должен был жить. У меня четверо детей, ипотека, работа. Но я не представляю радости без мужа.
Я не думаю, что другие мамы из «Мама и я» так думают. Я знаю, что они были бы совершенно опустошены, если бы оказались вдовыми. Но любая из них пожертвовала бы чем угодно, включая своих мужей, ради своих детей.
Может ли мое плохое материнство быть ошибкой мужа? Возможно, он просто вызывает более полное обожание, чем другие мужья. Он готовит, убирает, заботится о детях не менее 50 процентов своего времени.
Если самая эротическая форма прелюдии для матери маленького ребенка, как я слышала от некоторых женщин, это загрузить посудомоечную машину или подмести пол, то он мастер возбуждать.
Он красивый, умный и успешный. Но он также может быть легкомысленным, асоциальным и высокомерным. Он плохой танцор и слишком много знает о клингонской политике и текстах песен Yes. В общем, он не намного лучше других мужчин. Вина должна быть моей собственной.
В общем, он не намного лучше других мужчин. Вина должна быть моей собственной.
Пытаюсь вспомнить первые дни и недели после родов. Я знаю, что моему сексуальному влечению к мужу потребовалось некоторое время, чтобы вернуться. Я помню, что не хотел заниматься любовью. Мне даже не хотелось обниматься. Временами мне казалось, что если бы рука моего мужа случайно коснулась моей груди, когда он тянулся к солонке, я бы отпилила ее ножом для масла.
Даже сейчас я не всегда в настроении. К тому времени, когда дети ложатся спать, я так же истощена, как любая мать, которая провела свой день, работая, собирая автомобили, строя замки из Lego и покупая идеально подходящие футбольные бутсы. Я тоже навязчивый читатель. Соедините усталость и книжное червячество, и вы можете получить ситуацию, в которой никто никогда ничего не получает. За исключением того, что когда я краешком глаза замечаю своего мужа — его гладкие круглые плечи, его ярко-голубые глаза через увеличение его очков для чтения, — я переворачиваю страницу своего романа.
Иногда мне кажется, что я одинок в своей одержимости своим супругом. Иногда мне кажется, что мой муж не чувствует того, что чувствую я. Он любит детей так, как положено матери. Он поместил их в центр своего мира. Но он мужчина и поэтому обладает сильным либидо. То, что он нашел что-то, что узурпирует меня как солнце своей вселенной, не означает, что он хочет заниматься со мной любовью меньше.
И тем не менее, он говорит, что я ошибаюсь. Он говорит, что любит меня, как я люблю его. Время от времени мы убегаем от детей на несколько дней. Мы говорим о нашей любви, о том, как сильно мы любим тела и мозги друг друга, о вещах, которые делают нас счастливыми в нашем браке.
В ходе этих извилистых и волнующих разговоров мы прикасаемся друг к другу, начинаем заниматься любовью, останавливаемся.
А потом мой муж скажет, что мы, он и я, суть того, чем он дорожит, что дети — спутники, любимые, но попутные.
Кажется, его совершенно не смущает то, что он так любит меня. Любить меня больше, чем своих детей, его не беспокоит. Это не заставляет его чувствовать себя плохим отцом. Он не считает, что любить меня больше, чем их, — это своего рода неверность.
Любить меня больше, чем своих детей, его не беспокоит. Это не заставляет его чувствовать себя плохим отцом. Он не считает, что любить меня больше, чем их, — это своего рода неверность.
И я, полагаю, тоже не должен. Я не должен использовать эту жалкую фразу «плохая мать». По крайней мере, я должен признать, что, по крайней мере, я достаточно хорош. Я знаю это: когда я оглядываю комнату на других матерей в группе, я знаю, что ни с одной из них я бы не поменялся местами.
Я бы хотел, чтобы какой-нибудь ученый социолог опубликовал подробное исследование браков, в которых родители отчаянно и горячо влюблены, где родители любят друг друга даже больше, чем детей. Было бы замечательно, если бы можно было установить раз и навсегда, что дети от этих браков более успешны, счастливы, живут дольше и ведут более здоровую жизнь, чем дети, чьи матери сосредоточивают на них свои желания и страсти.
НО даже в том вероятном случае, что это исследование не предвидится, даже в том случае, если мне грозит расплата, в которой мои дети, не дай Бог, станут героиновыми наркоманами или, не дай Бог, не смогут сформировать приличные привязанности и скитаться от одних жалких и неудовлетворительных отношений к другим, или, не дай Бог, к другим вещам, о которых я даже не могла даже мечтать, я не могу сожалеть о том, что, когда я смотрю на своего мужа, я все еще чувствую то же ускорение желания, которое я чувствовала 12 лет назад, когда я увидела его впервые, стоящим в подъезде моего многоквартирного дома с букетом лиловых ирисов в руках.
А если мои дети возмущаются тем, что были лунами, а не солнцем? Если они будут ругать меня за то, что я недостаточно любил их? Если меня назовут плохой матерью?
Я скажу им, что желаю им такой же любви, как и их отцу. Я скажу им, что они мои дети, и они заслуживают и того, чтобы любить, и быть любимыми такими. Я скажу им довольствоваться не меньшим, чем тем, что они видели, когда смотрели на меня, смотрели на него.
Эл. Это эссе адаптировано из книги «Потому что я так сказала: 33 матери пишут о детях, сексе, мужчинах, старении, вере, расе и о себе», которая будет опубликована издательством HarperCollins в следующем месяце.
Версия этой статьи напечатана в разделе 9, на странице 11 национального издания под заголовком: СОВРЕМЕННАЯ ЛЮБОВЬ; Истинно, Безумно, Виновно. Заказать репринты | Сегодняшняя газета | Подписаться
Айелет Вальдман: Материнство стало олимпийским видом спорта | Иудаизм
Однажды весной 2005 года Айелет Вальдман открыла свой почтовый ящик и обнаружила 1000 новых сообщений.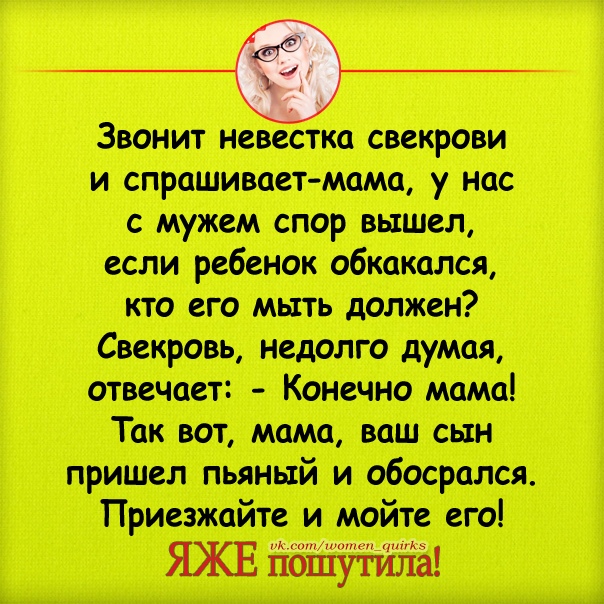 Должно быть, это ошибка, подумала она. На самом деле, это было началом потока ядовитых онлайн-комментариев, гневных записок, оставленных на ее воротах, выступления перед разъяренной аудиторией шоу Опры Уинфри и призывов к тому, чтобы социальные службы удалили ее детей.
Должно быть, это ошибка, подумала она. На самом деле, это было началом потока ядовитых онлайн-комментариев, гневных записок, оставленных на ее воротах, выступления перед разъяренной аудиторией шоу Опры Уинфри и призывов к тому, чтобы социальные службы удалили ее детей.
Корнем всего этого было эссе, которое она написала для антологии о материнстве, которое, как она ожидала, будет мало прочитано. Но это было подхвачено New York Times, и однажды в воскресенье миллионы людей узнали за завтраком, что она любит своего мужа «больше, чем я люблю своих детей». Она добавила, что часто занималась развлечением, которое она называла «Боже упаси», в котором она представляла, что произойдет, если она потеряет члена семьи. «Я представляю себя поглощенной, уничтоженной болью. И все же в этих фантазиях всегда есть будущее после смерти ребенка … Но мое воображение просто подводит меня, когда я пытаюсь представить будущее после смерти моего мужа. Конечно , мне бы жить. У меня четверо детей, ипотека, работа. Но без мужа я не представляю радости».
Но без мужа я не представляю радости».
Он привлек внимание публики к Уолдман громовым ударом, который, по ее словам, был ужасающим. Она разговаривает со мной из своего дома в Калифорнии, где живет с тремя младшими детьми и любимым мужем, лауреатом Пулитцеровской премии писателем Майклом Шейбоном. Материнская амбивалентность долгое время была центральной темой ее творчества: «Я думала, что буду Филипом Ротом в материнской амбивалентности, — говорит она, — я думала, что буду писать о том же, пока не умерла или не решила бросить курить». писательство» — и если ее критики сосредоточились на двойственной стороне уравнения, ясно, что она поглощена семейной жизнью.
Остроумие и ловкость, с которыми она обсуждает свою семью, напоминает ее карьеру общественного защитника, от которой она отказалась, когда ее старшие дети были маленькими. Уолдман только что опубликовал две книги в Великобритании. Есть амбициозный, проницательный роман «Любовь и сокровища», в котором рассказывается о Холокосте, феминизме и психоанализе, и «Плохая мать», сборник эссе.
Айелет Уолдман с Майклом и дочерью Идой-Роуз в 2004 году.
Плохая мать изначально вышла в США в 2009 году, но ей сказали, что в Великобритании в этом нет необходимости, что охрана матерей и материнства не является проблема здесь. Она сухо смеется. На протяжении 18 эссе Уолдман пишет об однообразии заботы о ребенке, пагубности вины и своем решении прервать беременность, когда амниоцентез в четыре месяца выявил «тройную хромосому там, где должно было быть только две». . Она всегда пишет с необыкновенной откровенностью, отражая ее философию о том, что «матери должны говорить правду, даже – нет, особенно – когда правда трудна».
Эссе посвящены чувству вины и стыда, которые испытывают многие матери, страху, что они потерпят неудачу и испортят своих детей. Это отражает интересный момент, промежуточный этап феминистской революции. С одной стороны, многие женщины строят блестящую карьеру вне дома, а с другой — культурное давление требует быть идеальной матерью. «Я не думаю, что это совпадение, — говорит Уолдман, — мы осознали, что хотим профессиональной реализации за пределами дома, материнство стало олимпийским видом спорта. Не знаю, как твоя мать, а моя обычно открывала дверь и говорила: «Увидимся за ужином». Воспитание не было глаголом, когда я была девочкой. И теперь ставки настолько высоки, игра настолько безумна, что как мы можем сделать все это? Вина и стыд кажутся неизбежными. Как мы пришли к тому, что , а не выпечка является политическим актом?»
Не знаю, как твоя мать, а моя обычно открывала дверь и говорила: «Увидимся за ужином». Воспитание не было глаголом, когда я была девочкой. И теперь ставки настолько высоки, игра настолько безумна, что как мы можем сделать все это? Вина и стыд кажутся неизбежными. Как мы пришли к тому, что , а не выпечка является политическим актом?»
Если и есть какая-то тема для эссе, говорит она, так это «давайте дадим друг другу передышку». В книге она обсуждает идею о том, что охрана матерей является патриархальной и политический, но заключает, что «по крайней мере в этой области мы, женщины, являемся главными авторами нашего собственного подчинения». Она вспоминает день, когда она стояла в очереди, кормя своего младшего ребенка из бутылочки, и женщина наклонилась вперед, чтобы комментарий: «Грудь лучше всего». Пусть формула пройдет через его губы. Каждое воспоминание о первых шести месяцах его жизни — это страдание. Это так трагично. Я прошла путь от женщины, которая кормила грудью одного сына, пока ему не исполнилось почти три года, до женщины, которая говорит каждой новой матери: «В молочных смесях нет ничего плохого!»»
Вальдман родился в Израиле, его родители из Монреаля. В конце 1960-х, когда ей было два года, ее мать настояла на том, чтобы семья вернулась в Канаду. «Она провела черту на песке и сказала: «Я не могу больше жить в этой стране. Слишком много войны. Это слишком страшно».
В конце 1960-х, когда ей было два года, ее мать настояла на том, чтобы семья вернулась в Канаду. «Она провела черту на песке и сказала: «Я не могу больше жить в этой стране. Слишком много войны. Это слишком страшно».
Айелет Вальдман в Израиле, 1967 год, незадолго до Шестидневной войны.
Выросшая как атеистка и сионистка, она читала мемуары о Холокосте один за другим, говорит она. Она потеряла веру в сионизм в 21 год, и писательнице потребовалось два десятилетия, чтобы почувствовать, что она может обратиться к Холокосту в своей художественной литературе, боясь писать «холокостный китч». «Любовь и сокровища» следует за кулоном в виде павлина, направляющимся из Зальцбурга в 19 году.45 до современного Будапешта и Израиля, а затем обратно в Будапешт 1913 года. Первая часть посвящена венгерскому золотому поезду, управляемому нацистами, который вез имущество венгерских евреев в сторону Берлина, прежде чем был захвачен американскими войсками.
Изменили ли исследование и написание книги ее отношение к своей еврейской идентичности? «Ну, да. Я продолжаю задавать этот вопрос: что это такое? Если это не религиозная вера и это не тот сионизм, в котором я вырос, то каков источник моей еврейской идентичности — который глубок и глубок? .Является ли это просто теоретический смысл прежних преследований? Потому что я никогда не подвергался гонениям. У меня действительно, объективно, была прелестная жизнь… Я не верю в Бога, я не занимаюсь еврейской практикой – хотя мои дети прошли бармицвах и у нас были для них эти милые службы. Так что же осталось?»
Я продолжаю задавать этот вопрос: что это такое? Если это не религиозная вера и это не тот сионизм, в котором я вырос, то каков источник моей еврейской идентичности — который глубок и глубок? .Является ли это просто теоретический смысл прежних преследований? Потому что я никогда не подвергался гонениям. У меня действительно, объективно, была прелестная жизнь… Я не верю в Бога, я не занимаюсь еврейской практикой – хотя мои дети прошли бармицвах и у нас были для них эти милые службы. Так что же осталось?»
Она начала свою карьеру с написания жанрового сериала под названием «Тайны следа мамочки» и в прошлом говорила, что она и Шейбон, которые вместе занимаются исследованием и пишут пилотные телевизионные шоу, никогда не чувствовали соперничества. Я спрашиваю, изменилось ли это с этим, ее четвертым литературным романом, получившим блестящие отзывы. «Чуть-чуть, в первый раз», — говорит она. «Ну, не столько соревновательный, но, например, кто-то в сегодняшней рецензии назвал часть этого романа романом, и мы с Майклом возмутились этой идеей, потому что в каждом из его романов есть история любви, но никто не стал бы никогда не называйте это романом».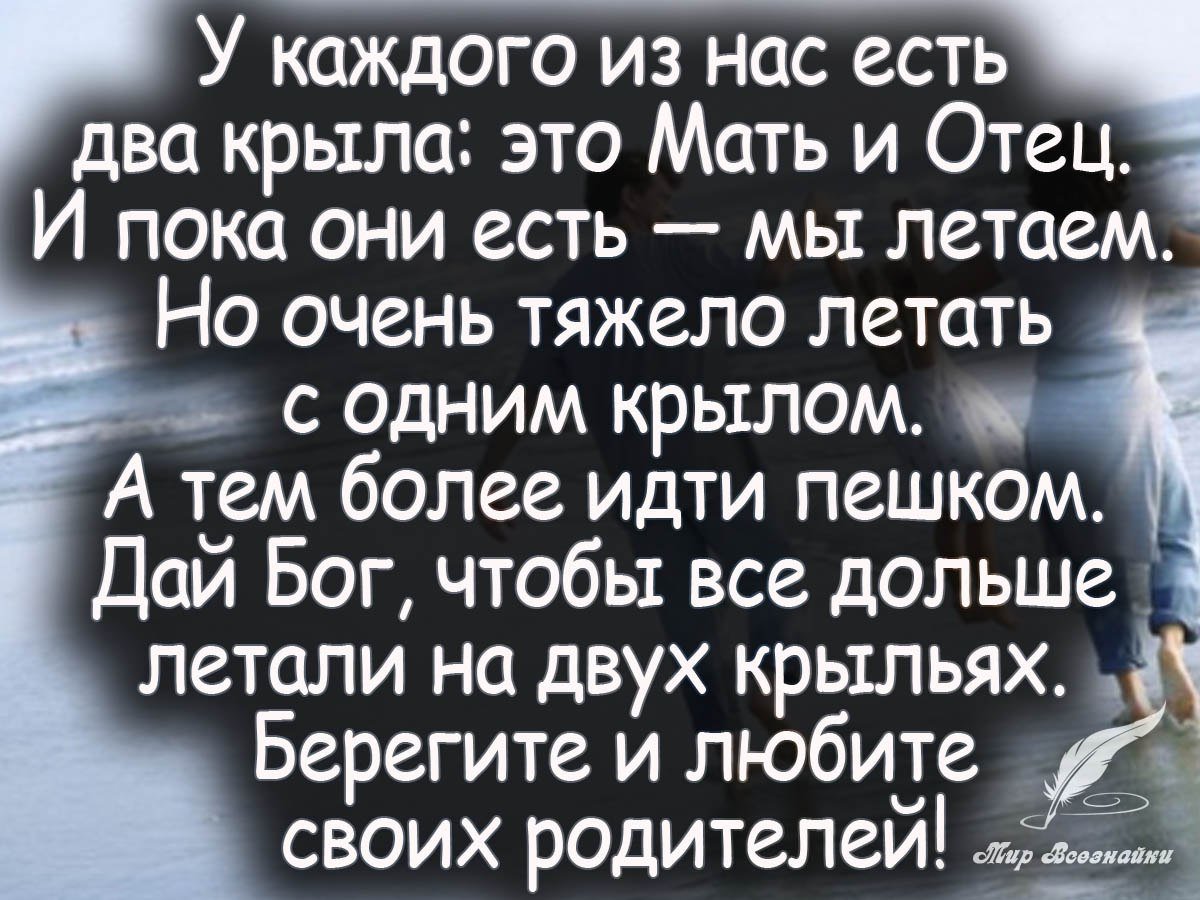
Относится ли она к Шейбону так же, как когда писала то эссе, которое привлекло к ней внимание общественности? «Тем более, — говорит она.
«Я только что отправила своего старшего в университет, и мы с мужем плакали и плакали целый месяц. Мы все ломались, вся семья. В какой-то момент мы были в ресторане, и мой младший сын потерял голову на стол, плакала, и мы с мужем оба плакали, и, наконец, Майкл сказал: «Вы знаете, она не умерла, люди. Нам нужно успокоиться. Через месяц она вернется в отпуск».
«Но я понял, что мы запустили ее в ее жизнь, и мы хорошо с этим справились — и поэтому она больше не сосредоточена на нас, и так и должно быть. Как только это произойдет с последним один — ему только вчера исполнилось 11, так что нам еще предстоит пройти — что осталось? Если вы сосредоточили все свое время и энергию на этих детях, за исключением вашего партнера, что осталось, когда они ушли?
«Я не хочу быть одной из тех матерей, которые отчаянно звонят своим детям, оставляя все более безумные сообщения, которые они затем загружают, чтобы стать мемами в Твиттере».
 «
«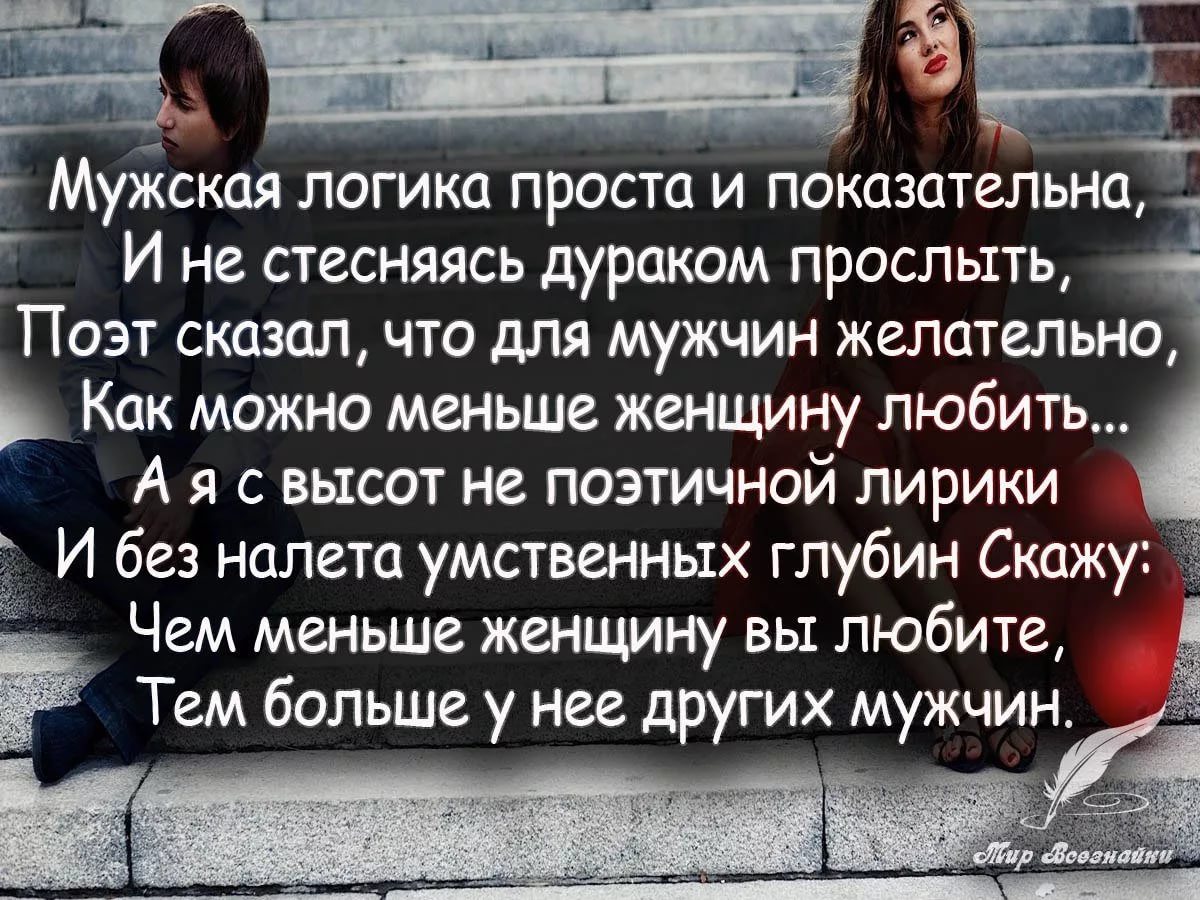 ..но воспоминание о стройной белокурой женщине оставалось во мне все дни; я не думал о ней, но точно легкая тень ее лежала на моей душе.»
..но воспоминание о стройной белокурой женщине оставалось во мне все дни; я не думал о ней, но точно легкая тень ее лежала на моей душе.»  «
«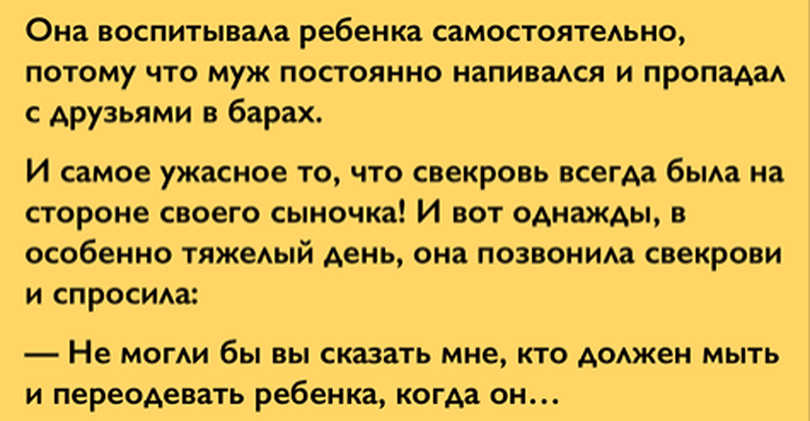 Мы боялись всего, что могло бы открыть нашу тайну нам же самим. Я любил нежно, глубоко, но я рассуждал, я спрашивал себя, к чему может повести наша любовь, если у нас не хватит сил бороться с нею; мне казалось невероятным, что эта моя тихая, грустная любовь вдруг грубо оборвет счастливое течение жизни ее мужа, детей, всего этого дома, где меня так любили и где мне так верили. Честно ли это? Она пошла бы за мной, но куда? Куда бы я мог увести ее? Другое дело, если бы у меня была красивая, интересная жизнь…»
Мы боялись всего, что могло бы открыть нашу тайну нам же самим. Я любил нежно, глубоко, но я рассуждал, я спрашивал себя, к чему может повести наша любовь, если у нас не хватит сил бороться с нею; мне казалось невероятным, что эта моя тихая, грустная любовь вдруг грубо оборвет счастливое течение жизни ее мужа, детей, всего этого дома, где меня так любили и где мне так верили. Честно ли это? Она пошла бы за мной, но куда? Куда бы я мог увести ее? Другое дело, если бы у меня была красивая, интересная жизнь…»  ..»
..» Она уже лечилась от расстройства нервов.»
Она уже лечилась от расстройства нервов.»