Биография, стихотворения, поэмы, хронология, семья, галерея
Марина Ивановна Цветаева — русская поэтесса, переводчица, автор биографических эссе и критических статей. Она считается одной из ключевых фигур в мировой поэзии XX века. Сегодня называют хрестоматийными такие стихотворения Марины Цветаевой о любви, как
«Пригвождена к позорному столбу…», «Не самозванка – я пришла домой…», «Вчера еще в глаза глядел…» и многие другие.
День рождения Марины Цветаевой приходится на православный праздник памяти апостола Иоанна Богослова. Это обстоятельство поэтесса позднее неоднократно отразит в своих произведениях. Родилась девочка в Москве, в семье профессора Московского университета, известного ученого-филолога и искусствоведа Ивана Владимировича Цветаева, и его второй супруги Марии Мейн, профессиональной пианистки, ученицы самого Николая Рубинштейна. И. В. Цветаев является основателем и первым директора Московского музея изящных искусств (Музей изобразительных искусств им. Пушкина). По отцу у Марины были единокровные брат Андрей и сестра Валерия, а также родная младшая сестра Анастасия. Творческие профессии родителей наложили отпечаток и на детство Цветаевой. Мама обучала ее игре на фортепиано и мечтала увидеть дочь музыкантом, а отец прививал любовь к качественной литературе и иностранным языкам и девочка уже в 6 лет писала стихи на нескольких языках.
По отцу у Марины были единокровные брат Андрей и сестра Валерия, а также родная младшая сестра Анастасия. Творческие профессии родителей наложили отпечаток и на детство Цветаевой. Мама обучала ее игре на фортепиано и мечтала увидеть дочь музыкантом, а отец прививал любовь к качественной литературе и иностранным языкам и девочка уже в 6 лет писала стихи на нескольких языках.
Первые годы жизни Марина много времени проводила в Тарусе.
Так получилось, что Марина с мамой часто жила заграницей, поэтому свободно говорила не только по-русски, но и на французском и немецком языках. Более того, когда маленькая шестилетняя Марина Цветаева стала писать стихи, то сочиняла она на всех трех, причем больше всего – по-французски.
Образование будущая знаменитая поэтесса начала получать в московской частной женской гимназии, а позднее училась в пансионах для девочек в Швейцарии и Германии. В 16 лет она попробовала прослушать курс лекций по старофранцузской литературе в парижской Сорбонне, но обучение там не окончила.
Когда поэтесса Цветаева начала публиковать свои стихи, она стала близко общаться с кругом московских символистов и активно участвовать в жизни литературных кружков и студий при издательстве «Мусагет». Вскоре начинается Гражданская война. Эти годы очень тяжело сказались на моральном состоянии молодой женщины. Разрыв родины на белую и красную составляющие она не принимала и не одобряла.
Весной 1922 года Марина Цветаева добивается разрешения эмигрировать из России и отправиться в Чехию, куда несколько лет назад бежал ее муж, Сергей Эфрон, служивший в рядах Белой армии, а теперь обучавшийся в Пражском университете.
Долгое время жизнь Марины Цветаевой была связана не только с Прагой, но и с Берлином, а через три года ее семья смогла добраться и до французской столицы. Но и там счастья женщина не обрела. На нее действовала угнетающе молва людей о том, что ее муж участвовал в заговоре против сына Льва Троцкого и что он завербован советской властью. Кроме того, Марина осознала, что по своему духу она не эмигрант, и Россия никак не отпускает ее мысли и сердце.
Основные разделы сайта:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Лев Сидоровский: 31 августа 1941 года погибла Марина Цветаева
Среда обитания
Лев Сидоровский
01 сентября 2021
В школе (это было сталинское время) Марину Цветаеву мы не «проходили», а также Есенина, Достоевского, Ахматову, Пастернака и много еще кого «запрещенных». Там, в Сибири, я вообще этого имени не знал. На филфаке Ленинградского университета (уже при Хрущеве) про Цветаеву нам тоже не сказали ни слова.
В июле 1955-го, в Москве, простояв ночь в очереди, чтобы узреть спасенные нашими воинами картины из Дрезденской галереи, я увидел у входа в Музей изобразительных искусств имени Пушкина мемориальную доску с бронзовым профилем «основателя музея, профессора Московского университета Ивана Владимировича Цветаева», но опять это имя мне ничего не сказало. И только в 1956-м, когда появился наделавший шуму второй выпуск сборника «Литературная Москва», там, с предисловием Ильи Эренбурга, оказалась и ее подборка.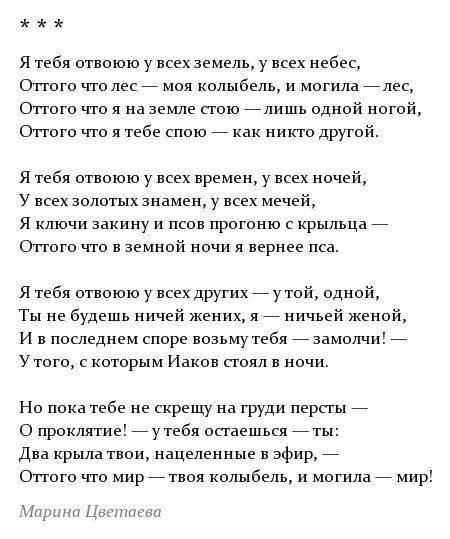
Особенно запомнилось: «…Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черёд». А в сборнике «День поэзии», выпущенном тогда же: «…Я глупая, а ты умён, // Живой, а я остолбенелая. // О, вопль женщин всех времён: // «Мой милый, что тебе я сделала?!..». Спустя многие годы, в 1991-м, придя в столице к давно всеми позабытой Изабелле Юрьевой, я вдруг узнал, что на месте этого дома в Трёхпрудном переулке когда-то был другой, принадлежавший Ивану Владимировичу Цветаеву, где прошли детство и юность Марины…
Марина родилась в 1892-м, 26 сентября: «Красною кистью // Рябина зажглась. // Падали листья. // Я родилась. (…) Мне и доныне // Хочется грызть // Красной рябины // Горькую кисть». Это написано в 1916-м. А через восемнадцать лет – в 1934-м: «Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст, // И всё равно, и всё – едино. // Но если по дороге – куст // Встаёт, особенно рябина…». Сколько же пришлось пережить за эти годы, обозначенные двумя датами, двумя стихотворениями, двумя рябинами.
Ей повезло появиться на свет в семье профессора-искусствоведа, директора Румянцевского музея, основавшего и Пушкинский музей. Позднее Марина вспоминала отца в час открытия музея: «Чуть склонив набок свою небольшую седую круглую голову – как всегда, когда читал или слушал (в эту минуту читал он прошлое, а слушал будущее), явно не видя всех на него глядящих, стоял он у главного входа, один среди белых колонн, под самым фронтоном музея, в зените своей жизни, на вершине своего дела». Ее мама, Мария Александровна Мейн (по происхождению – из обрусевшей польско-немецкой семьи), которая была пианисткой, ученицей Антона Рубинштейна, мечтала видеть дочь тоже музыкантом. Но Марина с шести лет писала стихи – на русском, немецком, французском.
Из-за маминой болезни дочь подолгу жила с ней в Италии, Швейцарии, Германии, однако в 1906-м чахотка всё же свела Марию Александровну в могилу. «После такой матери мне осталось только одно: стать поэтом», – сказала тогда Марина. Вместе с младшей сестрой, Анастасией, осталась на попечении заботливого отца. Кроме Москвы, они обожали Тарусу. Начальное образование Марина получила в Москве, продолжила его в пансионатах Лозанны и Фрайбурга, а в шестнадцать лет отправилась в Париж, чтобы прослушать курс лекций в Сорбонне: «В большом и радостном Париже // Мне снятся травы, облака, // И дальше смех, и тени ближе, // И боль, как прежде, глубока».
Кроме Москвы, они обожали Тарусу. Начальное образование Марина получила в Москве, продолжила его в пансионатах Лозанны и Фрайбурга, а в шестнадцать лет отправилась в Париж, чтобы прослушать курс лекций в Сорбонне: «В большом и радостном Париже // Мне снятся травы, облака, // И дальше смех, и тени ближе, // И боль, как прежде, глубока».
В восемнадцать выпустила первый сборник «Вечерний альбом», на который Валерий Брюсов, строгий арбитр поэтического вкуса, отозвался, выделяя юного поэта из среды приверженцев крайностей эстетизма и отвлеченного фантазирования: «Стихи Марины Цветаевой, напротив, всегда отправляются от какого-нибудь реального факта, от чего-нибудь действительно пережитого». Еще восторженней приветствовал молодого поэта Максимилиан Волошин, общение с которым переросло в дружбу. Именно под крышей его дома, в Коктебеле, «великолепная и победоносная», она встретила Сергея Эфрона, который скоро стал мужем и отцом Ариадны. Доченьку она чаще называла Алей: «Ты будешь невинной, тонкой, // Прелестной – и всем чужой! // Стремительной амазонкой, // Пленительной госпожой. ..».
..».
Одновременно выпускает сборники: «Волшебный фонарь» и «Из двух книг», где, в частности, люди прочитали: «Мне нравится, что вы больны не мной, // Мне нравится, что я больна не вами, // Что никогда тяжёлый шар земной // Не уплывёт под нашими ногами».
Она сама была «стремительной амазонкой». Поэтому неслучайна встреча с поэтессой и переводчицей Софьей Парнок: «Я помню, с каким вошли Вы // Лицом – без малейшей краски, // Как встали, кусая пальчик, // Чуть голову наклоня…», – вспоминала Цветаева. Роман вспыхнул моментально, необъяснимо: «…Не женщина и не мальчик, – // А что-то сильнее меня!»
Они были вместе два года. Вернувшись к мужу, отношения с Парнок Цветаева охарактеризовала как «первую катастрофу в своей жизни».
Характер у Цветаевой был трудный, неровный, неуступчивый. Илья Эренбург, хорошо знавший ее в молодости, писал: «Марина совмещала в себе старомодную учтивость и бунтарство, пиетет перед гармонией и любовь к душевному косноязычию, предельную гордость и предельную простоту.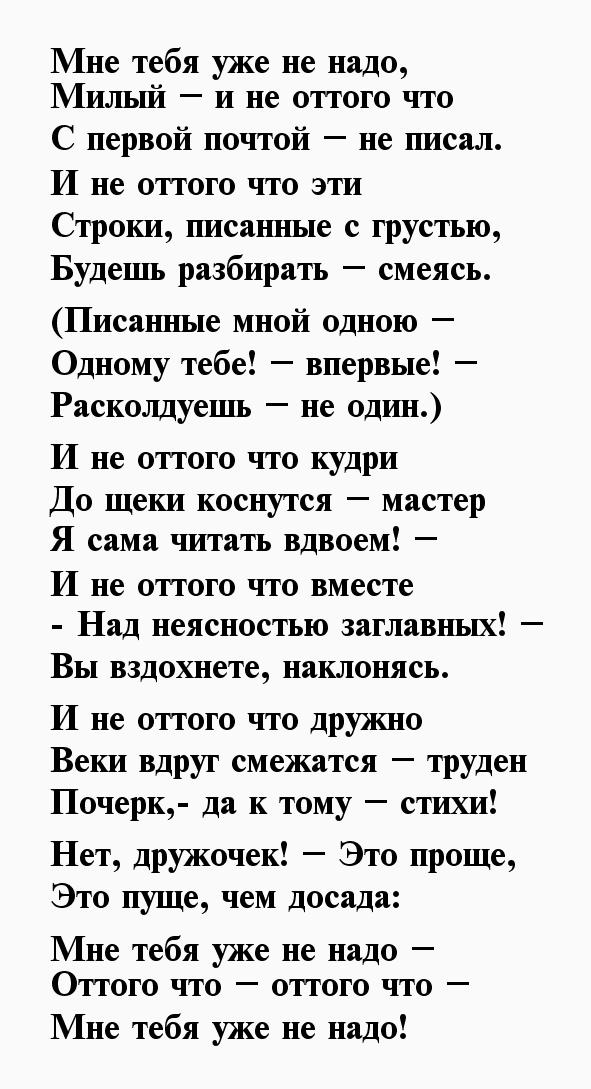 Ее жизнь была клубком прозрений и ошибок». Но «Я и в предсмертной икоте останусь поэтом!». В 1917-м родила Ирочку, которая скоро умрет в приюте от голода. Годы Гражданской войны для нее оказались очень тяжелыми. Эфрон служил в Белой армии, и Марина – вместе с романтическими пьесами и поэмами («Царь-девица», «Егорушка», «На красном коне») – создала цикл стихов «Лебединый стан», проникнутый сочувствием к белому движению.
Ее жизнь была клубком прозрений и ошибок». Но «Я и в предсмертной икоте останусь поэтом!». В 1917-м родила Ирочку, которая скоро умрет в приюте от голода. Годы Гражданской войны для нее оказались очень тяжелыми. Эфрон служил в Белой армии, и Марина – вместе с романтическими пьесами и поэмами («Царь-девица», «Егорушка», «На красном коне») – создала цикл стихов «Лебединый стан», проникнутый сочувствием к белому движению.
В мае 1922-го ей с Ариадной разрешили уехать за границу – к мужу, который, пережив разгром Деникина, будучи белым офицером, теперь в Праге учился в Карловом университете. Некоторое время с дочерью провела в Берлине, а потом на три года местом ее проживания стали разные пригороды Праги – Вшеноры, Макропсы, Йиловиште. Позже скажет, что «Чехия осталась у меня в памяти как один синий день и одна туманная ночь. Бесконечно люблю Чехию». Здесь написала «Поэму Горы», «Поэму Конца», трагедию «Ариадна» и большую часть поэмы «Крысолов». Здесь родился сын Георгий, которого они дома звали Муром.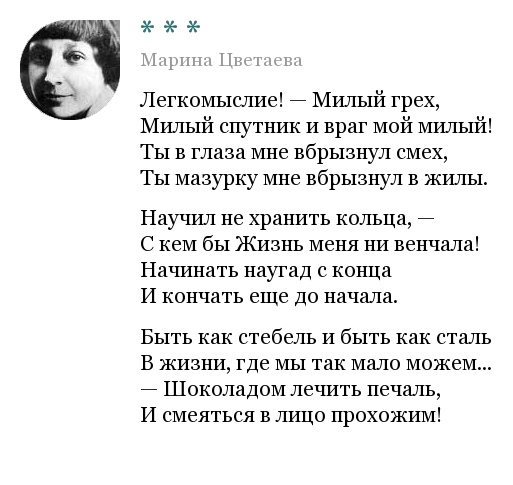
В 1925-м перебрались в Париж. Там стало невыносимо в атмосфере, сложившейся вокруг нее, из-за деятельности мужа: Эфрона русские эмигранты обвиняли в том, что он был завербован НКВД и участвовал в заговоре против Льва Седова, сына Троцкого. Спасали переписка с Борисом Пастернаком, австрийским поэтом Райнером Марией Рильке. Но Рильке неожиданно умер. Большинство из созданного в эмиграции опубликовать не смогла.
В 1928-м в Париже вышел ее последний прижизненный сборник — «После России». Позднее Цветаева напишет: «Моя неудача в эмиграции – в том, что я не эмигрант, что я по духу, то есть по воздуху и по размаху – там, туда, оттуда». Самоубийство Маяковского ее шокировало, что ощутимо в стихах. Подвиг челюскинцев взволновал – и это тоже в ее строфах. Говорила: «Я не верю стихам, которые льются. Рвутся – да!» О ее таланте можно сказать: гладиаторские объятия строк, полное внутреннее волеизъявление, без которого вообще-то и нет большой поэзии. Удивительно хороша и ее проза той поры. Признавалась: «Проза поэта – другая работа, чем проза прозаика, в ней единица усилия – не фраза, а слово, и даже часто – моё». Чтобы ощутить это, достаточно прочитать: «Мой Пушкин», «Мать и музыка», «Дом у Старого Пимена», «Повесть о Сонечке», воспоминания о Волошине, Кузмине, Белом.
Признавалась: «Проза поэта – другая работа, чем проза прозаика, в ней единица усилия – не фраза, а слово, и даже часто – моё». Чтобы ощутить это, достаточно прочитать: «Мой Пушкин», «Мать и музыка», «Дом у Старого Пимена», «Повесть о Сонечке», воспоминания о Волошине, Кузмине, Белом.
Но жили они в Париже, по сути, в нищете. Обращалась к сыну: «Нас родина не позовёт! // Езжай, мой сын, домой – вперёд – // В свой край, в свой век, в свой час – от нас». Русь для Цветаевой – достояние предков. Россия – не более как горестное воспоминание «отцов», которые потеряли родину и у которых нет надежды обрести ее вновь, а «детям» остается один путь – домой, на единственную родину, в СССР.
Личная драма поэтессы переплелась с трагедией века. Она увидела звериный оскал фашизма и успела проклясть его. Последнее, что Цветаева написала в эмиграции, – цикл гневных антифашистских стихов о растоптанной Чехословакии, которую нежно любила: «Не умрёшь, народ! // Бог тебя хранит! // Сердцем дал – гранат, // Грудью дал – гранит.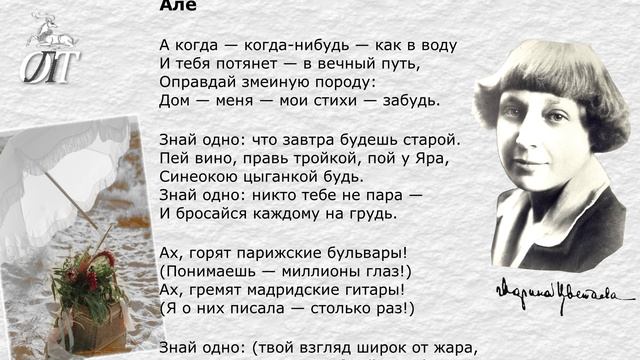 // Процветай, народ, – // Твёрдый, как скрижаль, // Жаркий, как гранат, // Чистый, как хрусталь».
// Процветай, народ, – // Твёрдый, как скрижаль, // Жаркий, как гранат, // Чистый, как хрусталь».
Весной 1937-го в Москву выехала Ариадна. За ней в октябре из Франции бежал Эфрон, замешанный в заказном политическом убийстве. В начале 1939-го арестовали Анастасию Цветаеву. В июне 1939-го Париж покинули Марина с Муром. В ночь с 27 на 28 августа 1939-го арестована Ариадна (после пятнадцати лет «отсидки» будет реабилитирована в 1955-м). В ноябре – взяли Эфрона (его расстреляют в августе 1941-го). Измученная Марина писала Сталину, Берии. В 1940-м для Гослитиздата подготовила сборник стихов, который перед самым выходом был «зарублен» рецензией Зелинского. Уже с декабря 1939-го переводы для нее стали единственным источником существования.
Война застала ее за переводами уничтоженного фашистами гениального Федерико Гарсиа Лорки. Восьмого августа с сыном отправилась на пароходе в эвакуацию. Восемнадцатого вместе с несколькими писателями прибыла в Елабугу на Каме. Город произвел жуткое впечатление. Поехала в Чистополь, где в основном находились эвакуированные литераторы. Лидия Корнеевна Чуковская вспоминает, как встретила там худощавую женщину в сером: «Серый берет, серое, словно из мешковины, пальто и в руках какой-то странный мешочек. Тонкое лицо, но словно припухшее. Щеки впалые, а глаза желто-зеленые, вглядывающиеся упорно. Взгляд тяжелый, выпытывающий». Это была Цветаева, которая надеялась получить местную прописку: «Если меня откажутся прописать в Чистополе, брошусь в Каму». В тот же день, 26 августа, подала заявление в Совет Литфонда: «Прошу принять меня на работу в качестве судомойки в открывающуюся столовую Литфонда». Вернулась в Елабугу и 31 августа повесилась, оставив три записки.
Поехала в Чистополь, где в основном находились эвакуированные литераторы. Лидия Корнеевна Чуковская вспоминает, как встретила там худощавую женщину в сером: «Серый берет, серое, словно из мешковины, пальто и в руках какой-то странный мешочек. Тонкое лицо, но словно припухшее. Щеки впалые, а глаза желто-зеленые, вглядывающиеся упорно. Взгляд тяжелый, выпытывающий». Это была Цветаева, которая надеялась получить местную прописку: «Если меня откажутся прописать в Чистополе, брошусь в Каму». В тот же день, 26 августа, подала заявление в Совет Литфонда: «Прошу принять меня на работу в качестве судомойки в открывающуюся столовую Литфонда». Вернулась в Елабугу и 31 августа повесилась, оставив три записки.
Сыну написала: «Мурлыга! Прости меня, но дальше было бы хуже. Я тяжело больна, это уже не я. Люблю тебя безумно. Пойми, что я больше не могла жить. Передай папе и Але – если увидишь – что любила их до последней минуты, и объясни, что попала в тупик».
В записке к поэту Николаю Асееву умоляла взять Мура к себе, в Чистополь, не оставлять, любить как сына. Поручала Николаю Николаевичу несколько рукописных книжек стихов и пачку с оттисками прозы.
Поручала Николаю Николаевичу несколько рукописных книжек стихов и пачку с оттисками прозы.
В записке к «эвакуированным», которые, вероятно, жили по соседству, просила отвезти Мура в Чистополь, к Асееву, и в конце: «Не похороните живой! Хорошенько проверьте».
Ее похоронили в Елабуге, на Петропавловском кладбище. В 1960-м на той стороне кладбища, где находится ее затерявшаяся могила, Анастасия Цветаева установила крест, а в 1970-м было сооружено гранитное надгробие.
Ее мальчик в начале 1944-го был призван на фронт и погиб в бою под деревней Друйка Витебской области.
В Париже она говорила: «Здесь, во Франции, и тени моей не останется. Таруса, Коктебель, да чешские деревни – вот места души моей». Потом написала: «Я бы хотела лежать на тарусском хлыстовском кладбище, под кустом бузины, в одной из тех могил с серебряным голубем, где растет самая красная и крупная в наших местах земляника. Но если это несбыточно (…) я бы хотела, чтобы на одном из тех холмов (…) поставили, с тарусской каменоломни, камень: «Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева».
Так люди добрые и сделали…
Автор: Лев Сидоровский, Иркутск — Петербург
На фото: Марина Цветаева, 1925-й.
Возрастное ограничение: 16+
Все статьи автора
В наших соцсетях всё самое интересное!
Хроника смерти в России | Пауль Шмидт
Примечание переводчика:
Есенин, Маяковский, Цветаева. Три русских поэта, три самоубийцы. Следующие стихи написаны ими, о них и написаны друг другу; мы можем читать их как хронику фатальности. Стихотворение Беллы Ахмадулиной, живущей и пишущей сегодня в Советском Союзе, пытается положить конец этой фатальности. Стихотворение Цветаевой ранее нигде не публиковалось и вскоре появится вместе с другими ее стихотворениями к Маяковскому в специальном выпуске TriQuarterly об эмигрантской литературе под редакцией Симона Карлинского. Остальные стихотворения более или менее известны в различных переводах, но здесь они представлены как документы в едином и неповторимом тексте.
—Пауль Шмидт
27 декабря 1925
Ленинград
Комната в гостинице «Англетер».
Поэт Сергей Есенин один. Развелся с Айседорой Дункан, снова женился, расстался. Жестокий алкоголик. Перочинным ножом он перерезает себе запястье, пишет это стихотворение своей кровью и вешается. Тридцать лет.
До свидания, дорогая, до свидания,
До свидания. Ты в моем сердце.
Это предопределенное расставание
Обещание: мы встретимся снова.
До свиданья, милый, — не говори ни слова,
Не плачь. И не грусти.
В этой жизни в смерти нет ничего нового,
Но в жизни нет ничего нового.
Январь, февраль, март 1926 года
Поэт Владимир Маяковский возмущен и огорчен самоубийством Есенина. «Я поставил перед собой задачу: попытаться разрядить последнее стихотворение Есенина… предложить другую красоту вместо легкой красоты смерти… месяца три я возвращался к ней каждый день, но ничего, казалось, не имело смысла…». К апрелю он закончил свое стихотворение,
СЕРГЕЮ ЕСЕНИНУ
Ты ушел,
(как говорится)
в лучший мир.
Чушь.
лестница к звездам, не так ли?
Больше никаких авансов издателей
, никаких баров.
Нет, Есенин, это не шутка.
В горле ком горя.
Я вижу, как вы с перерезанными запястьями
подбрасываете свой пучок костей.
ПРЕКРАТИ!
Отстань!
Намазать щеки мертвенно-белым мелом?
Ты, который мог делать вещи словами
никто в мире
не мог сделать!
ПОЧЕМУ? ЗАЧЕМ?
Критики
бормочут:
«Причины те или
, может быть, те,
но в основном у него не было достаточного отношения
с рабочим классом
, потому что он пил слишком много пива и вина».
Отлично,
они имеют в виду только то, что если бы вы отказались от своих творческих друзей
в пользу рабочих, это оказало бы хорошее влияние, и вы
были бы спасены.
Какого черта, по их мнению, пьют
рабочих?
Лимонад?
Они имеют в виду, что
вы бы получили партийного поэта
, назначенного на ваше дело, и результат
перевесил бы
поэзию:
вам пришлось бы писать сто строк
в день, такой же скучный и вялый
, как и все остальные.
Прежде чем пройти через
что-нибудь настолько глупое, я бы тоже
наложила на себя руки.
Лучше умереть от водки —
Если от скуки, то хуже.
Ни та петля
раскрыть глубины
нашей утраты. Если бы у «Англетера» было немного чернил,
вам не пришлось бы вскрывать себе
вены.
Вашим подражателям понравилось: Encore!
Куча из них
уже покончили с собой.
Зачем?
Зачем увеличивать число самоубийств?
Почему бы просто не увеличить производство чернил?
Твой язык застрял во рту навсегда.
Глупо,
неуместно,
придавать загадочности.
Ревущий словесник
развратник-ученик
мертв….
Много дел
Сначала мы должны переделать жизнь,
тогда мы сможем написать о ней
песен.
Сейчас трудные дни для пера,
и стихотворение—
Но когда,
где,
когда-нибудь выбирал путь, уже побитый
и легкий?
Слова командуют
силами человечества—
Вперед, марш!
Пусть время пронесется мимо нас
Словно ракетные снаряды
Пусть унесет
только ветер,
как он ерошит нам волосы.
Наша планета
была плохо спроектирована
для счастья;
мы должны урвать удовольствие
от дней грядущих.
В этой жизни смерть не так тяжела.
Строить новую жизнь — это сложнее.
14 апреля 1930 года
Москва.
Квартира в Лубянском переулке.
Маяковский в глубокой депрессии: бесплодная любовная связь, бурные критические приступы. Поездка за границу только усилила его чувство изоляции. Один, ночью. Он работал над этим стихотворением в своей последней тетради; он копирует его в письмо, адресованное «Всем», и стреляет в себя. Тридцать шесть лет.
Она любит меня, не любит. Я вырываю руку
и выбрасываю оторванные пальцы,
как игры с бродячими ромашками
каждую весну рвешь и выбрасываешь.
Бритье и стрижка покажут мою седину;
Я хочу, чтобы серебро лет стало очень четким.
Я надеюсь и верю, что никогда не достигну
позора здравого смысла.
Уже час дня. Вы, должно быть, крепко спите.
Серебряная река Ока в ночи
Это всего лишь Млечный Путь.
Я не тороплюсь; нет необходимости отправлять
Телеграммы, чтобы разбудить и потревожить вас.
Инцидент, как говорится, исчерпан. Все сделано. Перестарался.
Лодка любви терпит крушение в реальности.
Мы с тобой квиты:
нет нужды в резюме
взаимной боли, обид и обид.
Вы только посмотрите, весь мир замер!
Именно в такие моменты ты просыпаешься и говоришь
со Временем, с Историей, со всем Творением….
Август 1930 г.
Франция
Поэтесса Марина Цветаева живет в изгнании в Париже, отчужденная там от русской интеллигенции — отчасти из-за своего восхищения Есениным и Маяковским. Этим летом она заканчивает цикл из семи стихотворений «Маяковскому». Это стихотворение шестое. (Два мертвых поэта встречаются и разговаривают в раю.)
«Советские властители
Перед Высоким Синодом…».
Привет, Сережа.
Привет, Володя.
Было ли это слишком? Немного.
По общим причинам?— Нет, по личным.
Вы использовали ружье?—Таков обычай.
Было больно? Конечно.
Так тебе надоело жить?
Вы имеете в виду?
Глупый, Сережа.
Глупый, Володя.
Помнишь, как
Ты меня перекрикивал
На пике своего громкого
Басового рева?—Отлично,
Только…. Взгляните на свою любовную лодку
Взгляните на свою любовную лодку
Теперь, ваш дурацкий шлюп! Какой беспорядок!
Неужели из-за женщины?
—Если водка, то хуже.
У тебя все лицо опухшее;
Должно быть, вы были загружены.
Глупый, Сережа.
Глупый, Володя.
Во всяком случае, не бритвой.
По крайней мере, так аккуратнее.
Итак, твой последний туз
Потерян?… Ты истекаешь кровью…
Наложи пластырь.
Йод помогает.
Починим, Сережа.
Починим, Володя.
А Мать
Руша? Что? Где
Это? Назад в USS
R? Они строят? Конечно.
Родители делают детей,
Диверсанты делают бомбы.
Издатели играют в те же старые игры,
Поэты пишут стихи.
Начат новый мост,
Размытый весенним паводком….
То же самое, Сережа.
Как всегда, Володя.
А скворечник? Новые поэты?
Они довольно острые;
Пока нам венки плетут
Нас крадут слепыми, как будто
Мы были мертвы. Они забрызгали
Old ROSTA новым дешевым блеском.
— Но они никогда не уживутся
На одном Пастернаке.
Поможем,
Сорвем их тупость?
Давай-(Хочешь, Сережа?)
Исправим, Володя!
Каждый шлет наилучшее….
А старый Алекс
Александрович Блок?
— Там! Видеть? «Лксандер — ангел!
Сологуб? Вниз по каналам,
Ищет лицо утонувшей жены
Во льдах. Гумилев, Николай?
Ушел на восток —
(Завернутый в окровавленную мешковину,
Брошенный на телегу с трупами)
То же, Сережа.
Как всегда, Володя.
Так все равно — ну,
Володя дорогой — дорогой друг —
Возложим на себя руки,
Володя, хотя руки
Нет.
Они ушли; ну,
Сережа милый — милый мальчик —
Зажжем фитиль
Рай взорвется!
И после того, как мы разнесем
Рай на куски,
Выпьем в дорогу!
Сережа! Володя!
31 августа 1941 г.
Елабуга
За Волгой
Марина Цветаева вернулась с семьей в Советский Союз в 1939 г. Муж — арестован, расстрелян. Дочь — арестована. Ее эвакуируют в провинцию, в Елабугу. В одиночестве она вешается. Не осталось ни письма, ни стихотворения. Сорок девять лет.
Муж — арестован, расстрелян. Дочь — арестована. Ее эвакуируют в провинцию, в Елабугу. В одиночестве она вешается. Не осталось ни письма, ни стихотворения. Сорок девять лет.
1967
Белла Ахмадулина, советская поэтесса, 30 лет. Смертельное наследие. Есенин и Маяковский были доступны, но образ, мысль о третьем самоубийстве ранит. У нее есть только несколько цветаевских стихов, несколько старинных картин, знакомый памятник поэту Пушкину, которого так любила Цветаева, и уродливое название этого уродливого города — Елабуга.
КЛЯНУСЬ
Тем летним снимком на чужом
крыльце, согнутом и одиноком, как виселица,
ведущем из дома, а не в него.
Одетый в бушующий атласный доспех, который душит
большой мускул горла
ты сидишь там, труд
голода и печали окончен,
все воспето.
По этому снимку.
Мягким уголком локтя ребенка
с изумленной улыбкой
смерть притягивает к себе детей —
и отмечает этот факт на их лицах.
Тяжёлой болью воспоминаний о тебе
когда, глотая одышку горя
в задыхании тире твоих стихов,
откашливаюсь и давлюсь до крови.
Твоим присутствием я взял, украл,
прихватил для себя, отнял у других,
позабыв, что ты чужой, запретный;
ты был Божьим—
и Ему было мало тебя.
Клянусь твоим последним исхуданием, которое крысиным зубом прогрызло
.
Милостивой, благословенной, Родиной
, который бросил вас в грязном приюте.
По Пушкину, нашему невиданному африканцу, которого вы любили
неразумно, который созерцает детей
на Тверском бульваре. И самими детьми.
К твоему печальному покою в раю,
, где ушли и боль, и забота.
Клянусь.
Клянусь убить Елабугу, твою собственную
Елабугу, чтобы наши внуки могли спать.
Старухи будут пугать их перед сном,
не зная, что Елабуга мертва:
«Спи, мальчик, спи, девочка, спи,
, а то Елабуга слепая достанет тебя».
О, как его учащающийся клубок ног
ползет все быстрее и быстрее и быстрее!
Я буду безжалостно втирать свой ботинок с железной подошвой
в его щупальца,
бросать вес пятки и носка
ему на затылок — и удерживать его.
Зеленоватые соки,
бьющие из его детенышей, острые и ядовитые, обожгут мне ногу.
Зреющее яйцо, которое набухает в его хвосте
Я раздавлю землю, бездонную землю,
и никогда не упоминать о роковом подъезде
бездомности Марины.
О, клянусь
всем этим.
А тем временем во мраке,
дурным запахом слизи, жабами на мокрых камнях,
моя родная Елабуга ждет и клянется
убить меня своим желтым глазом.
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Марина Цветаева. – SHARKPACK Poetry Review
новый год
I.
с новым годом – счастливый новый свет, новый мир – счастливый новый край, новое царство –
Счастливого Нового Пристанища!
первое письмо тебе в следующем —
место, где никогда ничего не происходит
(даже почти никогда не бывает блефа), место, где всегда происходит грубость,
спешка, как пустая башня Эола.
первое письмо тебе со вчерашней
родины, теперь без тебя нет страны,
теперь уже одна из
звезд. . . и этот закон ухода и ухода, расщепления
и расщепления,
этого когтя, благодаря которому мой возлюбленный становится именем в списке
(о нем? с 26 года?),
и бывшее превращается в несбывшееся.
рассказать вам, как я узнал?
не землетрясение, не лавина.
подошел парень — кто угодно (ты мой):
«правда, прискорбная потеря. это сегодня в «Таймс».
вы напишете для него статью?» где?
«в горах». (окно выходит на еловые ветки.
простыня.) «Ты что, газет не читаешь?
, а некролог ты не напишешь? нет. — но… — пощадите меня.
вслух: слишком сложно. молча: не предам моего Христа.
«в санатории». (небеса напрокат.)
какой день? «Вчера, позавчера, не помню.
ты пойдешь в Алькасар позже? нет.
вслух: семейные дела. молча: что угодно, только не Иуда.
II.
за наступающий год! (ты родился завтра!)
рассказать тебе, что я сделал, когда узнал о—
упс . . . нет, нет, я оговорился. плохая привычка.
. . нет, нет, я оговорился. плохая привычка.
Я уже некоторое время заключаю жизнь и смерть в кавычки,
как пустые истории, которые мы сплетаем. сознательно.
ну я ничего не делал. но что-то случилось
, случилось без тени и без эха, случилось
.
, как прошла поездка?
как разорвало, вытерпела, разорвала
сердце твое? верхом на лучших орловских скаковых лошадях
(они не отстают, вы сказали, от орлов)
у вас перехватило дыхание, или того хуже?
было сладко? ни высот, ни падений для тебя,
летал ты на настоящих русских орлах,
ты. мы связаны кровными узами с тем миром и со светом:
это случилось здесь, на Руси, мир и свет
созрели на нас. спешка набирает обороты.
Я говорю жизнь и смерть с ухмылкой,
скрыто, так что ты поцелуешь меня, чтобы узнать.
Я говорю жизнь и смерть со сноской,
звездочка (звезда, ночь, которую я жажду,
ебать полушарие головного мозга,
Я хочу звезды).
III.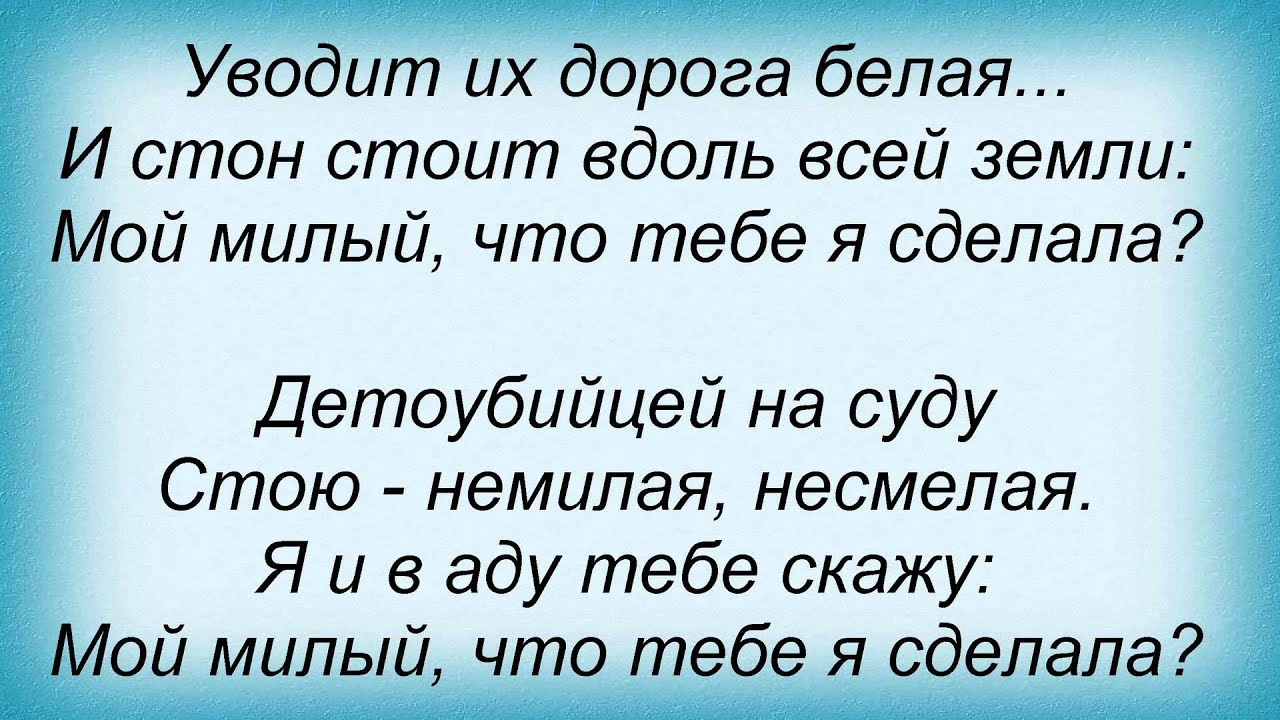
теперь не забудь, мой милый, мой друг,
если я использую русские буквы
вместо немецких, это не потому что
говорят, что в наши дни все сойдет,
не потому, что нищие не могут выбирать,
не потому, что покойник бедняк,
он что угодно съест, даже глазом не моргнет.
нет, это потому, что этот мир, этот свет —
можно ли назвать его «нашим»? — он не лишен языка.
когда мне было тринадцать, в Новодевичьем монастыре,
я понял: это довавилонское.
все языки в одном.
тоска. ты больше никогда не спросишь меня
как сказать «гнездо» по-русски.
единственное гнездо, целое гнездо, ничего, кроме гнезда—
приютивший русский стишок со звездами.
я кажусь рассеянным? нет, невозможно,
ничто не отвлекает от тебя.
каждая мысль-каждая, Дю Либер,
слог-ведет к тебе, несмотря ни на что,
(ах к черту родной русский язык, с немецким,
хочу язык ангела) места нет,
нет гнезда, без тебя, ой подожди есть, только один. твоя могила.
твоя могила.
все изменилось, ничего не изменилось.
ты не забудешь — то есть не обо мне —?
как там, Райнер, как ты себя чувствуешь?
настойчивый, верный, самоуверенный,
как соотносится первое видение поэтом Вселенной
с его последним взглядом на эту планету,
эта планета, которую вы видели только один раз?
поэт ушел из пепла, дух покинул тело
(разделить двоих было бы грехом),
и ты ушел от себя, ты ушел от себя,
не лучше быть рожденным Зевсом,
Кастор вырвал — тебя из себя — из Поллукса,
мраморный разрыв — тебя из себя — из земли,
не разлука и не встреча, просто
противостояние, встреча и разлука
первая.
как ты мог видеть свою собственную руку достаточно хорошо, чтобы писать,
чтобы смотреть на след чернил на твоей руке,
с твоего насеста на высоте, в милях (сколько миль?),
твой насест в бесконечных, потому что безысходных, высотах,
намного выше кристалла Средиземного моря
и других тарелок.
все изменилось, ничего не изменится
насколько я понимаю, здесь на окраине.
все изменилось, ничего не меняется —
хотя я не знаю, как отправить письмо этой лишней недели
моему корреспонденту — и куда мне теперь смотреть,
опираясь на край лжи — если не от этого к тому,
если не от того к этому. страдая от этого. долго терпел это.
IV.
Я живу в Белвью. маленький город
гнезд и веток. переглядываясь с гидом:
Bellevue. крепость с прекрасным видом
на Париж—камера с галльской химерой—
Парижа — и еще дальше. . .
опираясь на алый обод,
как они должны быть смешны вам (кому?),
(мне!) они должны быть смешны, смешны, с бездонной высоты,
эти Бельвю и эти наши Бельведеры!
Я вялый. потерять его. подробности. острая необходимость.
Новый год стучится в дверь. за что можно выпить?
и с кем? а что действительно пить? вместо пузырьков шампанского
возьму в рот эти комочки ваты. там инсульт — Боже,
что я здесь делаю? какое покровительство — что я должен делать,
шум этого нового года — эхо твоей смерти, Райнер, это эхо и рифма.
если закрылся такой глаз, как ты,
то эта жизнь не жизнь, и смерть не смерть,
она меркнет, ускользает, поймаю при встрече.
ни жизни, ни смерти, ладно так какое-то третье дело,
новое. Я выпью за это (расстилаю солому,
сыплю цветы за 1927-ю вещь,
прощай 1926, какая радость, Райнер, заканчивая
и начиная с тебя!), я наклонюсь через
этот стол тебе, этот стол такой большой, что конца ему не видно,
я чокнусь своим стаканом, чокнусь,
мой стакан твоим. не стиль таверны!
мне на тебя, стекаясь, нам даю рифму,
третью рифму.
Смотрю через стол на твой крестик:
сколько мест на полях, сколько места
на краю! и для кого бы качался куст,
, если бы не для нас? столько мест — наших,
и ничьих! столько листвы! все твое!
твои места со мной (твои места с тобой).
(что бы я делал с тобой на митинге?
мы могли бы поговорить?) столько места — и я хочу времени,
месяцев, недель — дождливый пригород
без людей! Я хочу утро с тобой, Райнер,
Я хочу начинать утро с тобой,
, чтобы соловьи не добрались туда первыми.
мне, наверное, плохо видно, потому что я в яме.
вам, наверное, легче, потому что вы на высоте.
знаешь, между нами никогда ничего не было.
ничего так чисто и просто ничего,
это ничего, что было, так метко—
смотри, не буду вдаваться в подробности.
ничего, кроме — подожди бит,
это может быть большим (первый, кто промахнется
бит, проиграет игру) — вот оно,
бит, каким грядущим битом
мог быть ты?
ритм не останавливается. воздержаться, воздержаться.
ничто, кроме того, что что-то
каким-то образом стало ничем — тень чего-то
стала его тенью. ничего, то есть тот час,
тот день, тот дом — и этот рот, о, даровал
память приговоренному.
Райнер, мы слишком внимательно изучили?
ведь что осталось: тот свет, тот мир
принадлежал нам. мы отражение самих себя.
вместо всего этого — весь этот светлый мир. наши имена.
В.
счастливый свободный пригород,
счастливое новое место, Райнер, счастливый новый мир, новый свет, Райнер!
счастливая далекая точка, где возможно доказательство,
счастливое новое видение, Райнер, новый слух, Райнер.
все встало на вашем
пути. страсть, друг.
с новым звуком, Эхо!
с новым эхом, Звук!
сколько раз за партой моей школьницы:
что там за этими горами? какие реки?
красивые пейзажи без туристов?
я прав, Райнер, дождь, горы,
гром? это не притязания вдовы —
не может быть только одного неба, должно быть
над ним другое, более дождливое? с террасами? Я сужу по Татрам,
небо должно быть похоже на амфитеатр. (и они опускают занавес.)
я прав, Райнер, Бог растущий
баобаб? не Золотой Людовик?
не может быть только один Бог? над ним обязательно должен быть
другой, более дождливый?
как пишет на новом месте?
если ты там, то должна быть поэзия. вы
-это поэзия. как писать в хорошей жизни,
нет стола для локтей, нет лба для вашей борьбы,
я имею в виду вашу ладонь?
напиши мне, я скучаю по твоему почерку.
Райнер, тебе нравятся новые рифмы?
я правильно понимаю рифму слова,
есть целый ряд новых рифм,
есть ли новая рифма на смерть?
и еще один, Райнер, над ним?
никуда не деться.