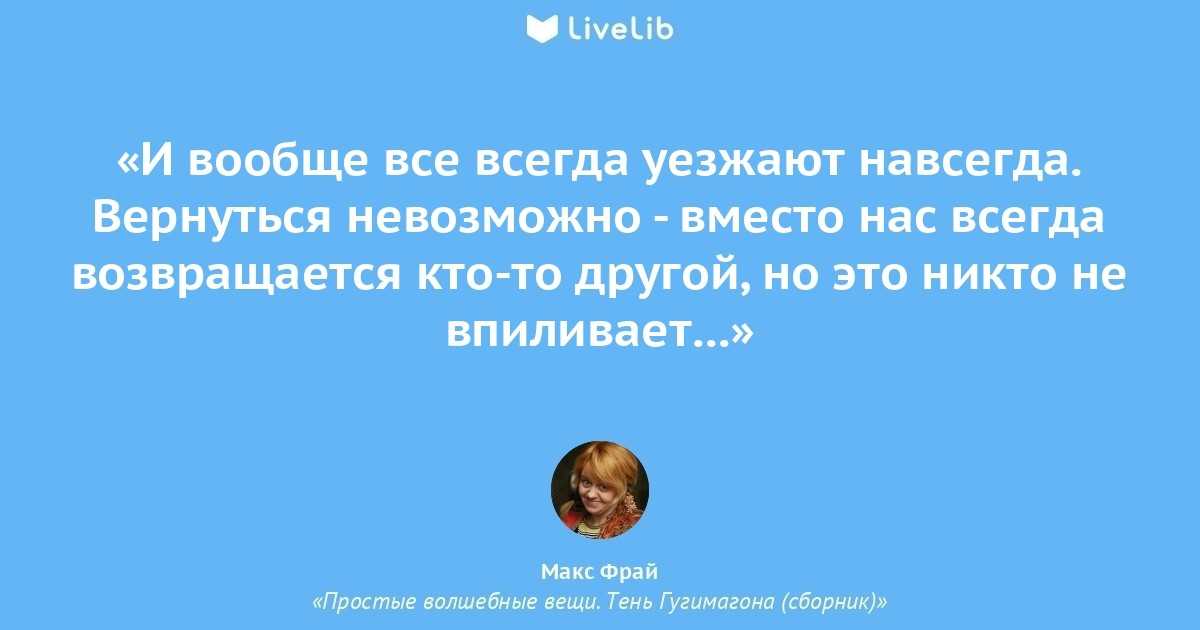|
Неизвестным для меня способом читать онлайн Макс Фрай (Страница 10)
* * *
— Я заехала в Тулузу! — говорит Мадлен; то есть практически кричит, потому что дед слегка глуховат, это почти незаметно, но по телефону ему все-таки трудно речь собеседника разбирать, Мадлен это знает и орет в трубку как резаная, четко, практически по слогам. — Мне было не совсем по дороге, но я заехала, специально для тебя! Нашла там улицу Парадоксов, она и правда отличная. И переулок, в котором твой желтый дом. Он прекрасный! Я его сфотографировала, как ты хотел, и быстро побежала к машине, чтобы успеть в Барселону до темноты…
— Мне было не совсем по дороге, но я заехала, специально для тебя! Нашла там улицу Парадоксов, она и правда отличная. И переулок, в котором твой желтый дом. Он прекрасный! Я его сфотографировала, как ты хотел, и быстро побежала к машине, чтобы успеть в Барселону до темноты…
— Спасибо, детка, — отвечает ей дед, он рад, и Мадлен чуть не плачет, потому что вроде бы ерунда, но ужасно, ужасно обидно. И дед, наверное, теперь будет думать, что ни в какую Тулузу она не заезжала, а просто ему наврала. Но лучше все-таки прямо сейчас все сказать.
— Я только теперь увидела, что дом очень плохо у меня получился, — кричит Мадлен. — Просто какое-то пятно. Представляешь? Ужасно обидно! Когда еще я теперь снова в Тулузу попаду. Даже не знаю, что делать…
— Ну как — что делать, — отвечает дед, и Мадлен практически видит, как он сейчас смеется одними глазами, раскачиваясь в гамаке. — Готовиться к тому что я лишу тебя за это наследства. Не скажу, где в саду закопана консервная банка с альтернативным решением теоремы Ферма!
* * *
— А в этом смешном желтом доме мы с Катькой жили, — сказала Лиза. — Лет, наверное, десять назад… слушай, нет, больше! В общем, так давно, что, считай, почти никогда. Я тогда приехала в Прагу поступать в киношколу, предсказуемо провалилась на первом же собеседовании, но решила, что все равно тут останусь, хоть тушкой, хоть чучелом, хоть нелегалкой на птичьих правах, лишь бы не возвращаться домой к родителям, которые теперь до конца дней будут бухтеть: «А мы тебе говорили, что ничего не получится! Только деньги потратила зря». Комната была оплачена до конца следующего месяца, что дальше, я понятия не имела, целыми днями ходила по улицам, чуть не плача от красоты, экономила деньги, почти ничего не ела, нашла одну кофейню с «подвешенным» кофе, то есть бесплатным, как бы в подарок от других посетителей, его и пила, была счастлива и пьяна от свободы и одновременно непрерывно умирала от страха, представляя, как меня вот-вот арестуют за просроченную визу и вышлют из страны; в общем, чуть с ума не сошла. И тут внезапно вытащила из колоды событий самого козырного в мире туза: познакомилась с Катькой.
— Лет, наверное, десять назад… слушай, нет, больше! В общем, так давно, что, считай, почти никогда. Я тогда приехала в Прагу поступать в киношколу, предсказуемо провалилась на первом же собеседовании, но решила, что все равно тут останусь, хоть тушкой, хоть чучелом, хоть нелегалкой на птичьих правах, лишь бы не возвращаться домой к родителям, которые теперь до конца дней будут бухтеть: «А мы тебе говорили, что ничего не получится! Только деньги потратила зря». Комната была оплачена до конца следующего месяца, что дальше, я понятия не имела, целыми днями ходила по улицам, чуть не плача от красоты, экономила деньги, почти ничего не ела, нашла одну кофейню с «подвешенным» кофе, то есть бесплатным, как бы в подарок от других посетителей, его и пила, была счастлива и пьяна от свободы и одновременно непрерывно умирала от страха, представляя, как меня вот-вот арестуют за просроченную визу и вышлют из страны; в общем, чуть с ума не сошла. И тут внезапно вытащила из колоды событий самого козырного в мире туза: познакомилась с Катькой. Она меня натурально спасла. Взяла работать в свою галерею, хотя толку от меня там поначалу было меньше, чем от уличного кота. И самое главное, предложила пожить у нее в квартире, сколько захочу. Сказала, дальняя комната все равно пустует, а одной иногда становится неуютно, особенно по вечерам. Я уже потом поняла, что не было ей неуютно. Куда там! Просто Катька умеет вывернуть все таким образом, как будто это ее в трудный момент выручили, а не она всех спасла. И не только со мной, с другими тоже, я видела много раз. Иногда я думаю, что Катька — замаскированный командировочный ангел; смешно, я вообще-то в традиционного бога не верю, но в добрых ангелов, один из которых Катька, получается, все-таки да… А знаешь что? Давай позвоним консьержке? Если сейчас нам откроют и пустят, я такое тебе покажу!
Она меня натурально спасла. Взяла работать в свою галерею, хотя толку от меня там поначалу было меньше, чем от уличного кота. И самое главное, предложила пожить у нее в квартире, сколько захочу. Сказала, дальняя комната все равно пустует, а одной иногда становится неуютно, особенно по вечерам. Я уже потом поняла, что не было ей неуютно. Куда там! Просто Катька умеет вывернуть все таким образом, как будто это ее в трудный момент выручили, а не она всех спасла. И не только со мной, с другими тоже, я видела много раз. Иногда я думаю, что Катька — замаскированный командировочный ангел; смешно, я вообще-то в традиционного бога не верю, но в добрых ангелов, один из которых Катька, получается, все-таки да… А знаешь что? Давай позвоним консьержке? Если сейчас нам откроют и пустят, я такое тебе покажу!
— Ну и не очень хотелось! — обиженно фыркнула Лиза после того, как несколько раз нажала кнопку звонка, а потом, бормоча: «Наверное, не работает» долго, старательно, буквально с каждой секундой утрачивая деликатность, стучала в дверь.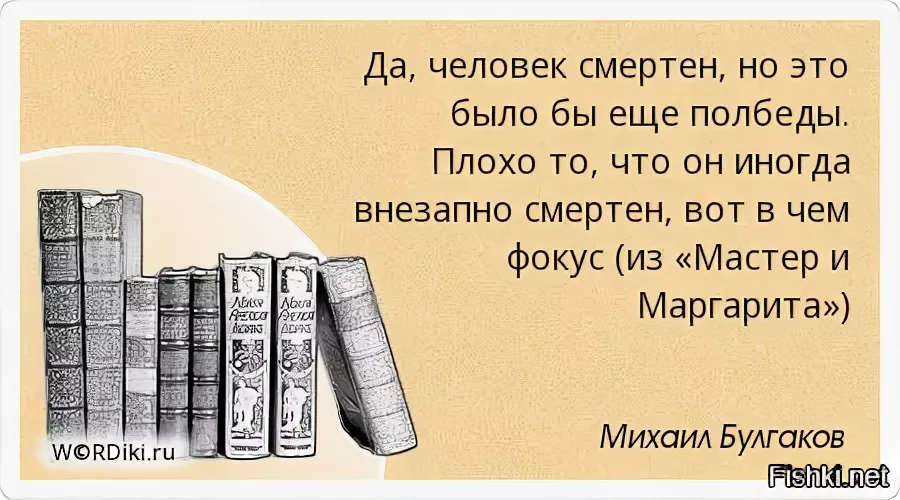 Но тут же призналась: — Вру. На самом деле еще как хотелось. Надеялась, может, Агата дома, выйдет посмотреть, кто так шумит, узнает меня, обрадуется, пригласит выпить кофе в саду. А я как раз и хотела сад тебе показать. Он тут большой-пребольшой, глядя с улицы, ни за что не подумаешь. Там даже пинии растут, отлично себя чувствуют, хотя здесь для них, по идее, все-таки холодно. Или нет? На самом деле не знаю, ботаник из меня тот еще… Ладно, в сад не попали, хоть сфотографирую дом на память, — вздохнула Лиза, доставая телефон из кармана. Сделала фото, посмотрела, удовлетворенно хмыкнула: — Ха-ха, и тут полный провал!
Но тут же призналась: — Вру. На самом деле еще как хотелось. Надеялась, может, Агата дома, выйдет посмотреть, кто так шумит, узнает меня, обрадуется, пригласит выпить кофе в саду. А я как раз и хотела сад тебе показать. Он тут большой-пребольшой, глядя с улицы, ни за что не подумаешь. Там даже пинии растут, отлично себя чувствуют, хотя здесь для них, по идее, все-таки холодно. Или нет? На самом деле не знаю, ботаник из меня тот еще… Ладно, в сад не попали, хоть сфотографирую дом на память, — вздохнула Лиза, доставая телефон из кармана. Сделала фото, посмотрела, удовлетворенно хмыкнула: — Ха-ха, и тут полный провал!
— На самом деле даже приятно, что некоторые вещи остаются неизменными, — сказала Лиза, спрятав в карман телефон. И объяснила: — Это такой загадочный феномен, какая-то локальная аномалия, никто никогда нормальную фотографию нашего дома сделать не мог. Ну мне, положим, тогда нечем было фотографировать, но у Катьки была совсем неплохая камера по тем временам. И у некоторых соседей. Точно помню, кто-то еще жаловался, что никак не может нормально сфотографировать дом, чтобы были видны детали. Вечно все расплывается мутным пятном.
Точно помню, кто-то еще жаловался, что никак не может нормально сфотографировать дом, чтобы были видны детали. Вечно все расплывается мутным пятном.
— Даже не знаю, как объяснить, почему этот дом и все, что с ним связано, кажется мне таким важным, — вздохнула Лиза, отставив в сторону чашку с кофе, который они сели пить в шести кварталах от желтого дома, ближе ничего приличного не нашлось. — Отчасти потому, что я тогда рискнула, как дура, осталась в Праге без денег и документов, сейчас бы ни за что не решилась, вспоминаю — вздрагиваю: оооооой, как жива-то вообще осталась? И тут вдруг страшный чужой заграничный мир взял меня на ручки и все уладил, практически без моих усилий, сам, даже с продлением визы помогли какие-то Катькины клиенты, и это было совсем уж необъяснимое чудо, до сих пор не понимаю, как.
В общем, — подытожила Лиза, — три года в этом чудесном доме стали чем-то вроде награды за храбрость. И одновременно наглядным свидетельством, что храбрые малолетние дуры не обязательно пропадают пропадом, что иногда бывает иначе, что можно, можно и так! Но дело не только в награде. Попала бы я туда благополучной девочкой, поступившей на первый курс Киношколы, все равно был бы примерно тот же эффект.
Попала бы я туда благополучной девочкой, поступившей на первый курс Киношколы, все равно был бы примерно тот же эффект.
У меня, — улыбнулась Лиза, — о том времени остались такие воспоминания, словно я при жизни побывала в раю. Комната с оранжевыми занавесками, огромный балкон, какие-то немыслимые витражи в подъезде, бывало спускаешься утром по мраморной лестнице и кажется, будто живешь во дворце. А сад! Как же все-таки жалко, что я не смогла тебе его показать! И хозяйка дома Агата меня опекала, как родную — не дочку, конечно, а, например, племянницу. Все время угощала чем-нибудь вкусным и книги из своей библиотеки давала читать. В общем, такая у меня была жизнь, что если книжку о ней написать, никто не поверит, скажут: что за чушь, так не бывает, даже неловко за наивного автора… Кстати, о книжках, вот сейчас я тебя насмешу! Я же там всем соседям врала, будто пишу роман. Понятия не имею зачем. Не то чтобы мне хотелось стать писательницей — нет, вообще никогда. Но один раз случайно ляпнула, и все, понеслось, не признаваться же, что обманула.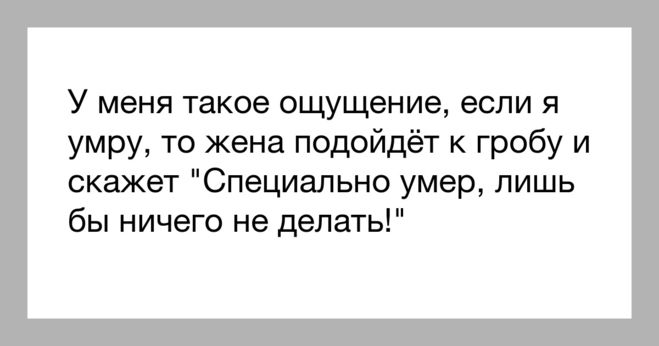 Ходила вся из себя такая загадочная, как будто обдумываю очередную главу, и с важным видом каждому обещала, что сделаю его персонажем романа. И они, бедные, верили, одним было приятно, а другие смущались, просили о них не писать. Но я была неумолима! — фыркнула Лиза. — Говорила, делайте что хотите, а все равно про вас напишу. В конце концов так завралась, что этот роман уже начал мне сниться. Как будто я сижу в своей комнате и его пишу. Жалко, подробностей совершенно не помню, там был какой-то интересный, почти детективный сюжет… Просыпалась усталая, на работе носом клевала полдня, а Катька смеялась: поделом тебе, дорогуша! Дала слово, держи, хотя бы во сне.
Ходила вся из себя такая загадочная, как будто обдумываю очередную главу, и с важным видом каждому обещала, что сделаю его персонажем романа. И они, бедные, верили, одним было приятно, а другие смущались, просили о них не писать. Но я была неумолима! — фыркнула Лиза. — Говорила, делайте что хотите, а все равно про вас напишу. В конце концов так завралась, что этот роман уже начал мне сниться. Как будто я сижу в своей комнате и его пишу. Жалко, подробностей совершенно не помню, там был какой-то интересный, почти детективный сюжет… Просыпалась усталая, на работе носом клевала полдня, а Катька смеялась: поделом тебе, дорогуша! Дала слово, держи, хотя бы во сне.
— Будь моя воля, — призналась Лиза, — я бы никуда из этого дома не уезжала. Так бы до сих пор там и жила. Но Катька внезапно укатила в Берлин, и все, с концами. Ее там позвали работать куратором в какое-то дико престижное место, «предложение, от которого невозможно отказаться», — так сказала она, когда я привезла ей вещи. Катька настолько резко сорвалась, что почти ничего с собой не взяла, а возвращаться ей было некогда, пришлось выручать.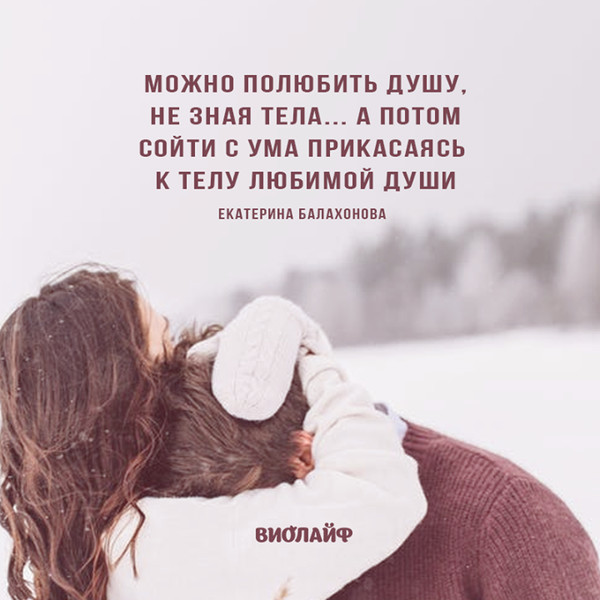 В итоге даже Катькину галерею мы с нашим бухгалтером Войцехом вдвоем без нее закрывали. Работа моя, таким образом, закончилась; я понемногу искала другую, но было ясно, что с квартиры скоро придется съезжать: с такими зарплатами, как мне предлагали, в одиночку аренду не потянуть. Катька звала к себе в Берлин, но без особого энтузиазма; оно и понятно: я была для нее частью пражской жизни, которая уже осталась позади, бывшей любимой подружкой, тут ничего не поделаешь, по себе знаю, как перелистываются страницы судьбы. В общем, пока я думала, как жить дальше, у меня закрутился роман с Жоаном, и все так стремительно понеслось, что через четыре месяца я уже оказалась замужем. И почему-то в Бильбао. В общем, опять все решилось само.
В итоге даже Катькину галерею мы с нашим бухгалтером Войцехом вдвоем без нее закрывали. Работа моя, таким образом, закончилась; я понемногу искала другую, но было ясно, что с квартиры скоро придется съезжать: с такими зарплатами, как мне предлагали, в одиночку аренду не потянуть. Катька звала к себе в Берлин, но без особого энтузиазма; оно и понятно: я была для нее частью пражской жизни, которая уже осталась позади, бывшей любимой подружкой, тут ничего не поделаешь, по себе знаю, как перелистываются страницы судьбы. В общем, пока я думала, как жить дальше, у меня закрутился роман с Жоаном, и все так стремительно понеслось, что через четыре месяца я уже оказалась замужем. И почему-то в Бильбао. В общем, опять все решилось само.
— Все-таки очень жалко, что нам не открыли, — сказала Лиза, когда они ждали трамвай. — Обидно, хоть плачь. Я знаю, что нельзя войти в одну реку дважды, но я же и не собиралась! Хотела просто пройти мимо этой реки по берегу, рукой помахать.
* * *
Катя смотрит в окно. За окном ничего интересного, только темная улица, редкие фонари. Так выглядит моя жизнь, — думает Катя. — Несколько огней в темноте — мои шаги. Один из уличных фонарей не горит, поэтому промежуток между соседними с ним фонарями вдвое больше, чем между остальными. Это шаг, который я не сделала, — думает Катя. — И ведь уже тогда заранее знала, что буду локти кусать. И согласилась с этим. Сама выбрала так. Но на то и жизнь, — думает Катя, — чтобы иногда ошибаться, делать неправильный выбор. А счастливая жизнь — это когда у тебя есть возможность переиграть. Я счастливая, — думает Катя, — я все-таки очень счастливая. Мало кому так везет.
За окном ничего интересного, только темная улица, редкие фонари. Так выглядит моя жизнь, — думает Катя. — Несколько огней в темноте — мои шаги. Один из уличных фонарей не горит, поэтому промежуток между соседними с ним фонарями вдвое больше, чем между остальными. Это шаг, который я не сделала, — думает Катя. — И ведь уже тогда заранее знала, что буду локти кусать. И согласилась с этим. Сама выбрала так. Но на то и жизнь, — думает Катя, — чтобы иногда ошибаться, делать неправильный выбор. А счастливая жизнь — это когда у тебя есть возможность переиграть. Я счастливая, — думает Катя, — я все-таки очень счастливая. Мало кому так везет.
Необъяснимые радости жизни
Этот год был трудным. Я знаю, что я не первый, кто это говорит, и точно не последний. В год, когда ничего не делалось, кроме как подталкивать, тыкать и ломать, я хочу воспользоваться моментом, чтобы сосредоточиться на необъяснимых радостях жизни.
Это мелочи. Моменты в жизни, когда вы думаете:
«Слава богу, я жив, слава богу, я живу этой жизнью».

Я знаю, что раньше это был блог о путешествиях, и он снова будет им. Однако сейчас мы не путешествуем, и во многих смыслах этот блог был коллекцией виньеток из моей жизни. Снимки еды, которая мне понравилась, поездки, которые я совершил, книги, которые я прочитал, вещи, которые меня сломали, и истории о том, как мне удалось снова собраться.
Когда мне был 21 год, я не хотел ничего, кроме как быть цифровым кочевником, путешествующим по миру, чтобы зарабатывать на жизнь. Сейчас, в 27 лет, я понимаю, что процветаю, когда у меня есть стабильность.
Я переехал в Швейцарию почти пять лет назад. Теперь я понимаю, что быть цифровым кочевником никогда не сделало бы меня счастливым. В Швейцарии я в безопасности. меня ценят. Я следовал своему сердцу и оставил все, что знал, чтобы сказать «да» любви. Когда снова станет безопасно, я снова смогу путешествовать. Однако, когда я в Швейцарии, я знаю, что я дома.
Мы находимся в эпицентре пандемии, которая, кажется, никогда не закончится. Я все время устаю. Однако недавно я понял, как далеко я продвинулся. Я думаю, что мы не ценим себя за то, что выживаем достаточно часто. Я знаю, что нет.
Я все время устаю. Однако недавно я понял, как далеко я продвинулся. Я думаю, что мы не ценим себя за то, что выживаем достаточно часто. Я знаю, что нет.
Поскольку я провел так много времени в этом блоге, отдавая вам свою душу, я знаю, что могу сказать следующее: я хочу жить, и я живу. Есть что-то прекрасное в том, чтобы смотреть на все маленькие радости и привилегии, которые у нас есть в жизни, которые заставляют нас идти вперед.
Хочу поделиться с вами своим.
Итак, небольшой экскурс в мою недавнюю жизнь.
Необъяснимые радости жизни состоят из:
Маленького черного кота, который каждый день прогуливается в нашу квартиру и спит на нашем диване или, совсем недавно, под нашей рождественской елкой. Ее зовут Ширли Джексон (да, королева готического ужаса). Вот только это не совсем ее имя, потому что она принадлежит нашей соседке, и они называют ее как-то иначе. Но мы зовем ее Ширли Джексон. У нее большие зеленые глаза, и она любит лежать на животе по утрам и спать. Нам так повезло жить в мире, где есть кошки. Особенно те, кто неторопливо входит в ваш дом в разгар пандемии и скрашивает вашу повседневную жизнь так, как вы даже не подозревали. Есть причина, по которой египтяне поклонялись им.
Нам так повезло жить в мире, где есть кошки. Особенно те, кто неторопливо входит в ваш дом в разгар пандемии и скрашивает вашу повседневную жизнь так, как вы даже не подозревали. Есть причина, по которой египтяне поклонялись им.
Кошки требуют, чтобы им поклонялись.
Наша елка. Даже если вы не празднуете Рождество, вы должны признать, что есть что-то одновременно волшебное и смешное в том факте, что мы приносим елку в наш дом раз в год и украшаем ее огнями и украшениями. Я знаю, что это должно пройти через несколько недель, но мое сердце наполняется радостью каждое утро, когда я включаю елку перед работой и смотрю, как она освещает нашу гостиную мягкими мерцающими оттенками.
Ощущение, что я захожу внутрь в холодный зимний день и чувствую, как тепло окутывает меня, как одеяло. Мне очень повезло, что у меня есть квартира с теплыми полами.
Просыпаться каждое утро рядом с любовью всей моей жизни и знать, что я проведу день, смеясь с человеком, который делает меня самым счастливым. Удивительно, что раньше я думал, что любовь должна быть жесткой.
Удивительно, что раньше я думал, что любовь должна быть жесткой.
Когда ты встречаешь человека, который освещает даже самые темные части тебя, любить легко.
Момент, когда я полностью увлекся новой книгой. Мне трудно понять, как кто-то может ненавидеть чтение, особенно в год без путешествий. С книгами вы можете пойти куда угодно, быть кем угодно. Я люблю гулять по волшебным полуночным библиотекам и прятаться в антиутопических лабораториях. Я люблю заблудиться на Шпицбергене. Так легко перенестись в парижское кафе, перевернув страницу. Книги — самый безопасный способ путешествовать.
Книги во многом мои самые дорогие и старые друзья.
Запах свежесваренного кофе и свежеподжаренного хлеба.
Звук дождя, бьющего по оконному стеклу
Чувство, которое вы испытываете, когда просыпаетесь и понимаете, что ваш будильник не прозвенит еще час . Есть так много маленьких, необъяснимых причин остаться в живых.
________________________________________________________________________________________________________________
Хотите узнать больше о Женском Хемингуэе? Следите за мной в Твиттере и Инстаграме.
Нравится:
Нравится Загрузка…
Тоска по чему-то, что вы не можете объяснить
Связанный
ByM-C Скарлетт
Несколько месяцев назад я разговаривал с новым другом из колледжа. Мы обсуждали написанные нами стихи и знакомились друг с другом. Мы смеялись над тем фактом, что мы оба иррационально цепляемся за меланхолические эмоции, потому что в них есть что-то такое сильное и удовлетворяющее.
Разговор об этой приятной мрачности напомнил мне о случае, который я пережил, когда мне было около пяти лет. В тот момент моей жизни я не мог выразить словами то, что я чувствовал. Даже если бы я это сделал, я был таким застенчивым ребенком, что, думаю, мне было бы слишком неловко. Или, может быть, я думал, что меня не поймут — даже моя семья — если я попытаюсь сформулировать то, что я чувствую.
«Опыт», о котором я говорю, произошел всего за несколько минут. Это случилось теплым вечером в июле или августе. Солнце уже село. В Огайо, где я вырос, летние дни были жаркими, но ночи были идеальными. Жужжали цикады, и дул легкий ветерок, нарушавший влажность. На моем заднем дворе было абсолютно спокойно.
Я была на качелях в удобной ночной рубашке. Пока я стоял лицом к своему дому, раскачиваясь взад-вперед, меня постепенно охватило сильное чувство.
Это чувство, наверное, невозможно правильно выразить ни на каком языке. Это была не просто эмоция. Скорее это было похоже на борьбу моей души с всепроникающей пустотой, таящейся в ее темных и неизведанных уголках. Это было парадоксальное стремление к какому-то необъяснимому «большему» при чистом удовлетворении моментом.
В моем случае я был доволен, потому что это была идеальная, безмятежная ночь во всех отношениях. И все же этот момент был наполнен эмоциями, которые были выше, чем счастье. Это было почти призвание. Или вызов обменять низшую форму счастья на какую-то еще неизвестную и более сложную.
Или вызов обменять низшую форму счастья на какую-то еще неизвестную и более сложную.
Как долго длился этот момент и те чувства, только до тех пор, пока я продолжал раскачиваться, так что, наверное, еще минут пятнадцать. Возможно, именно ритмичное движение качелей вперед-назад с самого начала повергло меня в такое медитативное состояние.
На осмысление этого момента у меня ушли годы. Я не был каким-то трансцендентным вундеркиндом с экзистенциальной проницательностью. Однако я помню, как сознательно думал, что не забуду этот момент, что он неизгладимо врезался в мою память.
Sehnsucht: необъяснимая тоска
Когда я недавно был на Pinterest, я наткнулся на слово и его определение. Это непереводимое составное немецкое слово, которое, по сути, передает то же самое понятие, которое я только что описал. Слово «sehnsucht» примерно означает безутешную тоску или задумчивое стремление к чему-то, что человек не может объяснить или не знает. Когда я наткнулся на это слово, я с облегчением нашел такой краткий способ описать это почти непередаваемое чувство.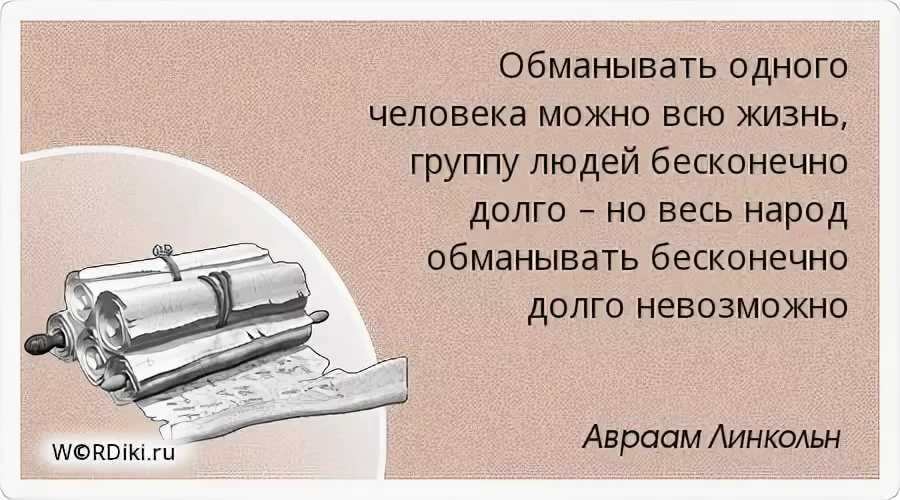
Почему я все еще думал о том детстве на качелях, спустя столько лет? Потому что я считаю, что, оглядываясь назад, этот момент открыл мне то, что я теперь понимаю как интроверсию — мою собственную интроверсию. Чувство sehnsucht пришло ко мне только тогда, когда я был один, не отвлекался, в спокойной обстановке и в задумчивом настроении. Я был счастлив и умиротворен один.
Для меня интроверсия — это суперсила, но у нее есть и одна загвоздка. Как интроверты, мы часто наблюдаем то, что многие другие люди не замечают. Благодаря этой мощной способности внимательности у нас есть способность соотносить свой опыт с опытом других, и, таким образом, у нас может быть повышенная способность к сопереживанию.
Однако наша интроверсия также может быть источником больших страданий. Вместе с глубокой и цветущей внутренней жизнью приходит искажение нашего восприятия. Мы можем легко стать жертвой лжи и негатива, которые нас окружают. Интроверты часто борются с депрессией, тревогой и доверием к другим. Наша эмпатия может сделать нас восприимчивыми к поглощению негативной энергии других, истощая нас до последней капли энергии и силы воли. Из-за этого мы можем чувствовать себя беспомощными, застрявшими в своей личности и неспособными «преодолеть» то, что на самом деле является нашим самым большим достоянием.
Наша эмпатия может сделать нас восприимчивыми к поглощению негативной энергии других, истощая нас до последней капли энергии и силы воли. Из-за этого мы можем чувствовать себя беспомощными, застрявшими в своей личности и неспособными «преодолеть» то, что на самом деле является нашим самым большим достоянием.
Несмотря на все эти очевидные неудачи, интроверсия — одна из лучших частей нас самих, которую мы можем предложить миру. Мы можем чувствовать себя «отбросами общества», когда у нас депрессия, потому что мы думаем, что наша жизнь не имеет цели или что работа, которую мы делаем, не имеет смысла.
Несмотря на это, сам факт того, что мы добросовестно и целенаправленно относимся к своей жизни, показывает нашу ценность для общества. Мы не удовлетворены простым выполнением задачи или получением больших денег, хотя это может быть частью нашей карьеры. Мы можем жаждать такого рода работы или образа жизни, который убедит нас в том, что мы улучшаем общество.
Мир нуждается во мне во мне
Это чувство «sehnsucht» связано с потребностью в смысле. Для меня этот диссонанс в моей душе был воплощением моей замкнутости. Во мне в возрасте пяти лет корни этого призвания только начинали обвиваться вокруг моего сердца.
Для меня этот диссонанс в моей душе был воплощением моей замкнутости. Во мне в возрасте пяти лет корни этого призвания только начинали обвиваться вокруг моего сердца.
Теперь я на шаг ближе к осознанию этого, но я не верю, что когда-нибудь полностью удовлетворю это внутреннее желание. В этом суть, я думаю. Было бы трагедией, если бы эта внутренняя тяга к «чему-то большему» со временем исчезла, потому что это оставило бы меня удовлетворенным состоянием посредственности. И если есть что-то, что, как я знаю, ненавидят интроверты, так это посредственность.
Не все интроверты почувствуют это «sehnsucht», но для меня это определяющая и прекрасная часть того, чтобы быть интровертом. Меланхолическое, но прекрасное напряжение в моей душе помогает мне осознать, что я действительно создан для величия.
Быть интровертом и использовать тоску, которая преследует меня, приведет меня к осмысленной жизни. Я верю, что мир был бы хуже без моей мощной, чуткой, интровертной жизни.
Надеюсь, ты знаешь, что мир был бы еще хуже без тебя.


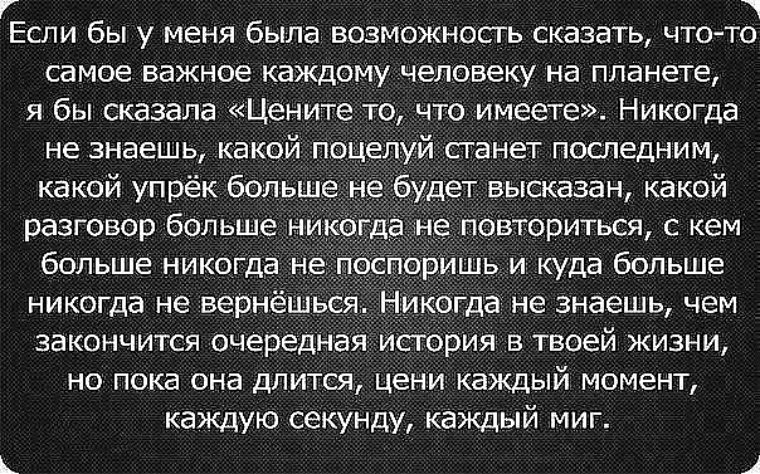 Не зная причин, тем не менее, я чувствую, что это так. И это чувство относится не к моему частному случаю, а к какой-то общей возможности. Больше того, я надеюсь, что кто-то реализует ее успешнее, чем это получается у меня.
Не зная причин, тем не менее, я чувствую, что это так. И это чувство относится не к моему частному случаю, а к какой-то общей возможности. Больше того, я надеюсь, что кто-то реализует ее успешнее, чем это получается у меня. Но теперь мы как будто не только получили какое-то необъяснимое историческое дозволение говорить так, и самым радикальным образом, но, похоже, ничего другого нам уже и не остается, поскольку все другое утомительно устарело.
Но теперь мы как будто не только получили какое-то необъяснимое историческое дозволение говорить так, и самым радикальным образом, но, похоже, ничего другого нам уже и не остается, поскольку все другое утомительно устарело. Мудрость открыта, и едва ли не исчерпывается этой своей открытостью, разоруженностью, готовностью не отвечать насилием на насилие. В этом смысле мудрость безумна. Но это безумие и есть единственно возможный для нее практичный, благоразумный образ действий. В противном случае ее тонкость, о которой говорит библейский гимн Премудрости, огрубеет, ее сверхсветовая скорость потухнет, ее всепроникающая волна ударится о вещи и смыслы, как о непреодолимые преграды, и разобьется вдребезги. И – как бы делает вывод Соловьев – если она, жизнь, премудрость, красота такова, и быть другой не может, если ее безумная терпеливость представляет собой зрелище, невыносимое для глаз, то кто-то должен же за нее вступиться? И это буду я.
Мудрость открыта, и едва ли не исчерпывается этой своей открытостью, разоруженностью, готовностью не отвечать насилием на насилие. В этом смысле мудрость безумна. Но это безумие и есть единственно возможный для нее практичный, благоразумный образ действий. В противном случае ее тонкость, о которой говорит библейский гимн Премудрости, огрубеет, ее сверхсветовая скорость потухнет, ее всепроникающая волна ударится о вещи и смыслы, как о непреодолимые преграды, и разобьется вдребезги. И – как бы делает вывод Соловьев – если она, жизнь, премудрость, красота такова, и быть другой не может, если ее безумная терпеливость представляет собой зрелище, невыносимое для глаз, то кто-то должен же за нее вступиться? И это буду я.

 Потому что мир его невозможно нарушить никакой провокацией отпора или ненависти с его стороны. Глядя на красоту, мы понимаем, что по-настоящему, до конца мирное – это неизбежно жертвенное. Такова интуиция искусства, с которой, мне кажется, встречается в своем опыте каждый художник. Нужно ли говорить, как она близка сердцевинной интуиции христианства, его корням?
Потому что мир его невозможно нарушить никакой провокацией отпора или ненависти с его стороны. Глядя на красоту, мы понимаем, что по-настоящему, до конца мирное – это неизбежно жертвенное. Такова интуиция искусства, с которой, мне кажется, встречается в своем опыте каждый художник. Нужно ли говорить, как она близка сердцевинной интуиции христианства, его корням?
 п. Прежде чем справиться с познанным предметом технически, такое рассмотрение вещей уже справилось с ними, так сказать, экзистенциально. Но поэзия, пока она поэзия, – хранительница волнения, и образ, пока он образ, оберегает значительность и ее счастливую тревогу. Поэтому мне кажется, что образ – конечно, не единственное, но может быть, самое родное, самое сердцевинное пространство для жизни веры.
п. Прежде чем справиться с познанным предметом технически, такое рассмотрение вещей уже справилось с ними, так сказать, экзистенциально. Но поэзия, пока она поэзия, – хранительница волнения, и образ, пока он образ, оберегает значительность и ее счастливую тревогу. Поэтому мне кажется, что образ – конечно, не единственное, но может быть, самое родное, самое сердцевинное пространство для жизни веры. Менее вероятна поэзия. “Смерть автора”, “смерть стиля”… и т.п., и т.п.
Менее вероятна поэзия. “Смерть автора”, “смерть стиля”… и т.п., и т.п.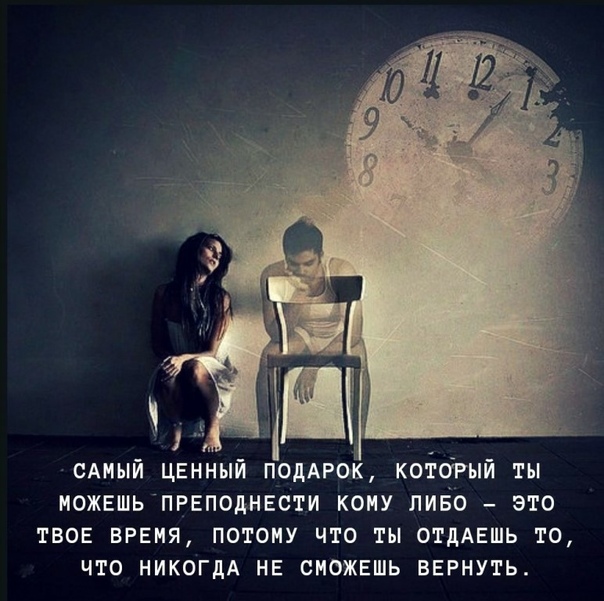 Удивительное по своей настойчивости и интенсивности забивание всего пространства восприятия! – так, чтобы и щели не осталось, в которую могла бы проглянуть глубина.
Удивительное по своей настойчивости и интенсивности забивание всего пространства восприятия! – так, чтобы и щели не осталось, в которую могла бы проглянуть глубина. Жажда чистого слова проста и неотменима, как потребность в воде. А в этом, как нам когда-то сказали, и есть воля человека.
Жажда чистого слова проста и неотменима, как потребность в воде. А в этом, как нам когда-то сказали, и есть воля человека. Но что в этом от христианской мысли о времени и истории?
Но что в этом от христианской мысли о времени и истории?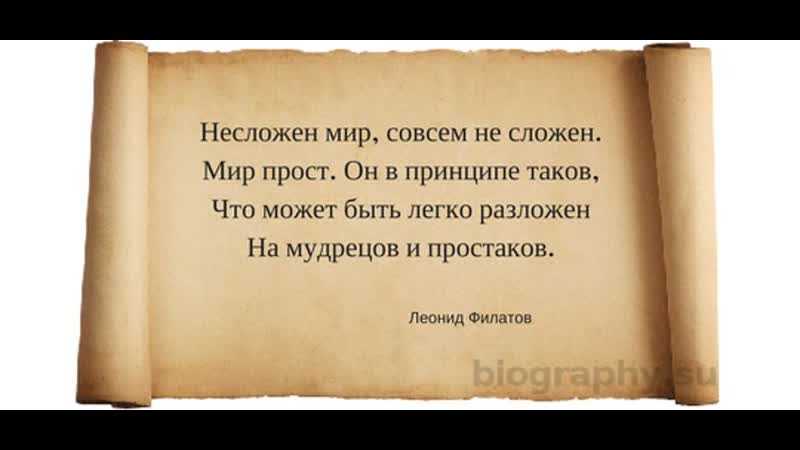
 Как, вспоминая недавнее прошлое, сказал С.С.Аверинцев, “когда России не оставалось нигде вокруг нас, она была в строках наших поэтов”. В стихах Ахматовой, Мандельштама, Цветаевой, Пастернака, Бродского… Для меня прежде всего – в Пушкине.
Как, вспоминая недавнее прошлое, сказал С.С.Аверинцев, “когда России не оставалось нигде вокруг нас, она была в строках наших поэтов”. В стихах Ахматовой, Мандельштама, Цветаевой, Пастернака, Бродского… Для меня прежде всего – в Пушкине.